
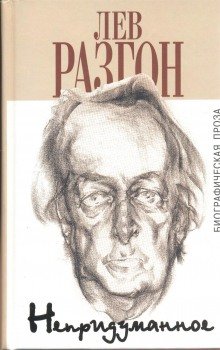
...Мы уже знали, что Сталин, при всем своем увлечении передовой
техникой, не расстается со старыми привычками: у каждого из его соратников
обязательно должны быть арестованы близкие. Кажется, среди ближайшего
окружения Сталина не было ни одного человека, у которого не арестовывали
более или менее близких родственников. У Кагановича одного брата
расстреляли, другой предпочел застрелиться сам; у Шверника арестовали и
расстреляли жившего с ним мужа его единственной дочери -- Стаха Ганецкого; у
Ворошилова арестовали родителей жены его сына и пытались арестовать жену
Ворошилова-- Екатерину Давыдовну; у Молотова, как известно, арестовали его
жену, которая сама была руководящим... Этот список можно продолжить... И
ничего не было удивительного в том, что арестовали жену и у Калинина.
Ну, а считаться с Калининым перестали уже давно. Я был на воле, когда
арестовали самого старого и близкого друга Калинина, его товарища еще по
работе на Путиловском -- Александра Васильевича Шотмана. Семья Шотмана была
мне близка, я дружил с его сыном и от него узнал некоторые подробности,
весьма, правда, обычные для своего времени. Шотман был не только другом
Калинина, старейшим большевиком, человеком, близким к Ленину... Он был еще и
членом Президиума ЦИКа, а, следовательно, формально, личностью
"неприкосновенной", и уж во всяком случае человеком, чей арест должен был
быть формально согласован с Председателем ЦИКа...
Ну так вот: пришли ночью к Шотману, спросили первое, что спрашивали у
старых большевиков: "Оружие и ленинские документы есть?" и забрали старика.
Жена Шотмана, еле дождавшись утра, позвонила Калинину. Михаил Иванович
обрадовался старой своей приятельнице и запел в телефон:
"Ну, наконец-то хоть ты позвонила. Уже почти неделю ни ты, ни Шурочка
не звонили, это свинство оставлять меня одного сейчас, ну как Шурочкин
радикулит, как дети..."
Жена Шотмана прервала радостно-спокойные слова старого друга:
-- Миша! Неужели тебе неизвестно, что сегодня ночью взяли Шуру?..
...Долгое-долгое молчание в телефонной трубке, и затем отчаянный крик
бедного президента:
-- Я ничего не знаю!.. Клянусь, я ничего не знаю!!!
Вечером того же дня жена Шотмана также была арестована. Сколько таких
звонков пришлось услышать Калинину?
x x x
Рика не хотела слушать никаких моих доводов. И я тогда предложил ей при
первой же встрече с Екатериной Ивановной передать ей привет от меня и
спросить ее от моего имени: знает ли что-либо о Шотмане и его жене... На
другой день мне позвонили с Комендантского, и я услышал охрипший от волнения
голос Рики:
-- Ты был прав! Все так, как ты говорил!..
Потом Рика мне рассказывала об этой драматической сцене... Она пришла в
баню к Екатерине Ивановне и, запинаясь, сказала то, что я ее просил сказать.
Екатерина Ивановна, при всей своей эстонской выдержке, побелела... Тогда
Рика спросила ее:
-- Неужели это правда? Неужели Вы?..
...И Екатерина Ивановна бросилась на шею Рике, и обе стали плакать так,
как это положено всем женщинам на свете. Даже, если они обладают выдержкой и
опытом, какие были у жены нашего президента.
Екатерину Ивановну "взяли" довольно банально, без особого
художественного спектакля. Просто ей позвонили в Кремль из ателье, где
шилось ее платье, и попросили приехать на примерку. В ателье ее уже
ждали...
Екатерина Ивановна, как я уже говорил, обладала эстонской
неразговорчивостью, конспиративным опытом старой революционерки и
жены профессионального революционера. Она не любила рассказывать о всем
том, что происходило после звонка из ателье. Но мы знали, что сидела она
тяжело. У нее в формуляре была чуть ли не половина Уголовного кодекса,
включая и самое страшное: статья 58-8 -- террор. Формуляр ее был перекрещен,
что означало -- она никогда не может быть расконвоирована и должна
использоваться только на общих тяжелых подконвойных работах. Из тех десяти
лет, к каким она была осуждена, Екатерина Ивановна большую часть отбыла на
самых тяжелых работах, на каких только использовались в лагере женщины. Но
она была здоровой, с детства привыкшей к труду и все это перенесла. Только
тогда, когда из другого расформированного во время войны лагеря она попала к
нам, удалось ее пристроить на "блатную" работу.
Во время последнего года войны в жизни Екатерины Ивановны стали
происходить благодатные изменения. Вероятно, Калинин не переставал просить
за жену. Что тоже отличало его от других "ближайших соратников". Молотов
никогда не заикался о своей жене, а его дочь, вступая в партию, на вопрос о
родителях ответила, что отец у нее -- Молотов, а матери у нее нет... Словом,
в последний год войны к Екатерине Ивановне стали регулярно приезжать ее
дочери --Юлия и Лидия. На время приезда в поселке выделяли комнату,
обставляли ее шикарной мебелью и даже коврами -- все же дочь Калинина! --
и заключенной жене президента разрешали три дня жить без конвоя в
комнате у своей дочери...
Когда в первый раз приехала Лида, Екатерина Ивановна передала мне через
Рику приглашение "в гости". Я тогда и познакомился с ней. Сидел, пил
привезенное из Москвы превосходное вино, вкус которого я давно забыл, ел
невозможные и невероятные вкусности, включая традиционно-обязательную
для номенклатуры -- икру... И слушал рассказы человека, только что
приехавшего из Москвы.
Страшновато -- даже для меня -- было слушать о том, как много и часто
Калинин униженно, обливаясь слезами, просил Сталина пощадить его подругу
жизни, освободить ее, дать ему возможность хоть перед смертью побыть с
ней... Однажды, уже в победные времена, разнежившийся Сталин, которому
надоели слезы старика, сказал, что ладно-- черт с ним!-- освободит он
старуху, как только кончится война!
... И теперь Калинин и его семья ждали конца войны с еще большим,
возможно, трепетным нетерпением, нежели прочие советские люди. Вот тогда-то,
во время одного из таких свиданий, я услышал, где находится зять Калинина,
чем и вызвал психический криз у заместителя начальника Санотдела ГУЛАГа.
После трех дней свидания заключенную Калинину опять переводили на
лагпункт, и она снова бралась за свое орудие производства: осколок стекла
для чистки гнид.
Когда будущий романист, воспевающий великую личность гениального
убийцы, будет описывать чувства, охватившие Сталина, когда война была
завершена, пусть он не забудет написать, что он -- в своей благостыне -- не
забыл и о такой мелочи, как обещание, данное Михаилу Ивановичу Калинину.
Почти ровно через месяц после окончания войны пришла телеграмма об
освобождении Екатерины Ивановны. Правда, в телеграмме не было указано, на
основании чего она освобождается, и администрация лагеря могла выдать ей
обычный для освобождающихся собачий паспорт, лишавший ее права приехать не
только в Москву, но и в еще двести семьдесят городов... Спешно снова
запросили Москву, расплывшийся от улыбок и любезностей начальник лагеря
предложил Екатерине Ивановне пожить пока у него... Но Екатерина Ивановна
предпочла эти дни пожить у Рики. Через несколько дней машина с начальством
подкатила к бедной хижине, где обитала Рика, начальники потащили чемоданы
своей бывшей подопечной, и Екатерина Ивановна, провожаемая Рикой, отбыла на
станцию железной дороги.
Осенью сорок пятого года, приехав в отпуск в Москву, я бывал у
Екатерины Ивановны. Мне это было трудно по многим причинам. В том числе
и потому, что Екатерина Ивановна жила у своей дочери в том самом доме,
в котором провела большую часть своей короткой жизни Оксана,--доме, в
котором жил и я... Лидия Калинина жила как раз под нашей бывшей квартирой, и
проходить по этому двору, по старой, воскресшей привычке подымать глаза к
окнам нашей комнаты -- было тяжко.
Екатерина Ивановна бывала рада моим приходам. Ехать к мужу в Кремль она
не захотела, и Михаил Иванович понимал, что это ей не нужно. Очевидно, что
сам он был к этому времени избавлен от каких-либо иллюзий. Когда в отпуск в
Москву приехала Рика, она много общалась с Екатериной Ивановной, ходила с
ней в театры, а после отъезда в Вожаель получала от нее милые письма. Легко
понять, почему Екатерине Ивановне не захотелось жить в Кремле. Это был страх
когда-нибудь случайно (хоть это было очень маловероятно) встретиться со
Сталиным. И все же ей этого не удалось избегнуть.
Когда Калинину дали возможность увидеть свою жену, он уже был
смертельно болен. Через год, летом сорок шестого года, он умер.
Мы были тогда еще в Устьвымлаге. Со странным чувством мы слушали
по радио и читали в газетах весь полный набор слов о том, как партия,
народ
и лично товарищ Сталин любили покойного. Еще было более странно читать
в газетах телеграмму английской королевы с выражением соболезнования
человеку, год назад чистившему гнид в лагере... И уж совсем было страшно
увидеть в газетах и журналах фотографии похорон Калинина. За гробом
покойного шла Екатерина Ивановна, а рядом с нею шел Сталин со всей своей
компанией...
...Значит, все-таки произошла эта встреча, произошел этот невероятный
кромешный маскарад, до которого не додумался и Шекспир в своих хрониках...
Как ни бесчеловечно было бы задать Екатерине Ивановне вопрос о ее чувствах
при этой встрече, но я бы это сделал, доведись мне ее снова увидеть. Но наше
с Рикой пребывание на воле было коротким, а когда в пятидесятых годах мы
вернулись в Москву, Екатерины Ивановны не было в городе.
Однажды в исторической редакции Детгиза я застал Юлию Михайловну
Калинину, только что выпустившую для детей книгу о своем отце. Меня с ней
познакомили.
Я сказал:
-- Мы с вами знакомы, Юлия Михайловна.
Юлия Михайловна внимательно в меня всмотрелась:
-- Да, да, конечно, мы с вами встречались. Наверняка в каком-то
санатории. В Барвихе или Соснах, да?
-- Нет, это был не совсем санаторий. Это место называлось Вожаель...
И в глазах дочери моей солагерницы я увидел возникшее чувство ужаса и
жалости -- то самое, какое я видел много лет назад при первом нашем
знакомстве.
ПРИНЦ
...А ты кнацаешь этого принеца!-- удивленно сказал мне старший
нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяге, которому я дал щепотку
махорки на самокрутку.
-- Какого принца? Вот этого? Почему ты его принцем зовешь?
-- Так он и есть принец! У него это в формуляре написано. Только
он черножопый принец. Из каких-то чучмеков... Но тихий из себя. Доплыл,
как лебедь... Не вылазит из слабосилки.
На этого зека я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких --
выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока -- у нас было немало. На
непривычном и страшном для них Севере они гибли быстро, почти неотвратимо.
Стационар и слабосильная команда были заполнены ими.
Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие
мухи,
с подъема до отбоя сидели на корточках, выбирая солнечные места и
греясь
на еще негорячем солнце.
Но арестант, которого я "кнацал", был особый, выделялся из них. Как и
все, он был одет в тряпье, остатки своей былой одежды. Так как пользы
от них лагерю не было, то и казенной одежды им почти не давали. У "принеца"
было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза. На вид -- лет
сорок,
не больше.
Меня он привлек одним свойством: он никогда и ни у кого не просил
"покурить". Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере. Ценился
больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь
курящим, сказать ему: "Покурим?"... И только самая последняя лагерная
сволочь могла в этом случае ответить: "С начальником на разводе"...
Никто свою самокрутку не докуривал -- отдавал другим. Лагерные шакалы
зорко следили за тем, кто закуривал, ходили за ним следом и ныли: "Оставь
десять"... "Дай на дымок"... Это значило: оставить десять процентов цигарки,
оставить хоть одну последнюю затяжку. Впрочем, истосковавшемуся по табаку
заключенному хватало и этой, одной затяжки. Он бережно брал обслюнявленный
крошечный остаток цигарки, насаживал на носимую с собой острую деревянную
щепочку, а потом глубоко, изо всех сил своих сморщившихся легких,
затягивался -- до самого конца, пока еще в мокрой газетной бумажке тлела
последняя крошка махорки. Сладкая, одурманивающая волна обволакивала его, он
бледнел еще больше, ноги подкашивались, он должен был тут же присесть, чтобы
не упасть.
Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной
махорочной затяжки. Я это испытывал и на себе.
Заключенный, которого Махиничев назвал "принецом", никогда и ни у кого
не просил "покурить". О том, как сильно ему хочется курить, можно было
догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и
тайком -- как будто он его воровал -- втягивал он табачный дым, если
кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека. Но глядеть на
страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал
получать посылки из дома, то стал давать этому, странно деликатному
арестанту закрутку махорки, а то и спичечную коробку табака. И -- это
было
уж действительно странно! -- мне стоило труда уговорить принять этот
дар.
Он был интеллигентен, прилично разговаривал по-русски, однажды, не
сумев
подобрать нужного русского слова, спросил -- не разговариваю ли я
по-английски... Я принимал .его не то за коминтерновца, не то за
богатого коммерсанта, не то за агента "интеллидженс сервис"... Но у нас не
принято расспрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму.
И -- когда он ко мне несколько привык -- беседы наши носили вполне безликий
и светский характер.
...Но принц!!! Тут уж я ничего не мог сделать со своей неугасимой
любознательностью! И однажды, когда мы присели на лавочке и закурили, я
осторожно стал его "раскалывать"... Мне для этого и не потребовалось
больших усилий. Очевидно, я был ему симпатичен, может быть, у него и
была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни.
x x x
Действительно, жизнь этого человека была необыкновенной, история
того, как очутился он в коми-зырянских лесах, выделялась своей
необычностью даже на фоне всего необычайного, что тогда происходило со всеми
нами.
...И в самом деле он был принц! Самый настоящий, доподлинный принц.
Конечно, не из Бурбонов, Гогенцоллернов, Ганноверов, а -- как говорил
старший нарядчик -- из "чучмеков"... Он был афганский принц. Двоюродный брат
знаменитого афганского короля Амманулла-Хана. Я хорошо помнил историю этого
афганского "Петра Великого", помню даже его внешность. Он
был первым королем, который приехал в Советскую страну во время своего
путешествия по Европе. Для московских комсомольцев живой король был
невероятной экзотикой, и мы не стеснялись приходить к роскошному особняку на
Софийской набережной--тому, где сейчас Английское посольство, -- чтобы
смотреть, как из ворот дворца выезжает "Ролл-ройс" с королем и королевой.
Как известно, Амманулла-Хан почти петровской рукой стал ограничивать
власть крупных феодалов и реакционного духовенства, завел западные порядки,
заигрывал с крохотной группой афганской интеллигенции. Своих родственников
он послал учиться за границу, и мой знакомый по первому лагерному пункту
окончил один из самых привилегированных колледжей в Оксфорде. После чего
приехал на родину, женился и проживал в Герате, где у него были главные
поместья и те самые восточные дворцы, про которые мы читали в мировой
литературе.
Он там и находился, когда в Афганистане началось восстание под
руководством Бачаи-Сакао. Восстание, кажется, было инспирировано
англичанами, в нем участвовали некоторые наиболее отсталые племена,
возбуждаемые духовенством, и на первых порах восставшие имели большой успех.
Бачаи-Сакао занял всю центральную часть страны, включая и ее
столицу -- Кабул. Поскольку он всех членов царствующего дома аккуратно
резал, то все они драпали. Кто куда. Большинство бежали в соседнюю
Индию. Убежала туда и семья принца, находившаяся тогда в Кабуле.
Мой солагерник присоединиться к ним не мог, потому что центр страны был
уже захвачен. Бежать он мог только в соседнюю, близкую от Герата, Советскую
Россию. У нас принца из династии, с которой мы заигрывали, приняли со всем
почетом. Его отвезли в Ташкент, отвели прекрасный особняк, полный слугами, и
стал принц вести свою, почти обычную, жизнь принца из восточной сказки. Тем
более, что -- как у всякого несказочного принца --
был у него текущий счет в каком-то европейском банке.
Так бы ему и жить да жить, спокойно ожидая дальнейшего развития
событий, не вмешайся в эту жизнь главный элемент любой сказ ки -- любовь.
Принц влюбился. Предметом его вспыхнувшей страсти была очень красивая
русская женщина -- жена какого-то бухгалтера. Даже в условиях почти
социалистической действительности принц всегда может отбить жену у
бухгалтера. Он ее и отбил. Бухгалтерша бросила своего обыденного мужа,
перешла в особняк принца и там стала вести почти сказочную жизнь.
Охваченный испепеляющей любовью, принц почти не следил за тем,
что происходило у него на родине. А там вся заваруха шла к концу. Под
напором событий Амманулла-Хан был вынужден отречься от престола, на
престол вступил суровый Надир-Хан -- дядя Аммануллы и ташкентского
любовника. Новый король отменил некоторые реформы своего неразумного
племянника, договорился с духовенством и феодалами, что-то обещал
англичанам, после чего быстро и вполне по-восточному разделался с
повстанцами, повесил Баче-Сакао и начал все приводить в порядок. Бежавшие
принцы и принцессы стали возвращаться в свои слегка пограбленные дворцы.
Должен был вернуться в Афганистан и мой знакомый. Должен был, но не
мог... Он не мог забрать с собой любимую бухгалтершу: у него на родине были
жена, дети... А расстаться с любовью у него не было сил! И он ждал, тянул,
тянул... А ждать становилось все труднее и труднее. Афганские газеты писали
о нем как о примере невероятного развращения нравов: бросил жену, детей,
живет с неверной в большевистской стране... Новый и суровый властелин
Афганистана категорически приказал принцу кончать свою затянувшуюся любовную
историю и возвратиться к обычной скучной принцевской жизни. Предупреждения
следовали за предупреждениями...
И тогда принц сделал то, что обычно делают только сказочные принцы:
он решил остаться в Ташкенте и до конца своих дней жить с любимой в
качестве частного лица... Но вскоре ему пришлось убедиться, что это возможно
только в сказках. Разгневанный дядя провел через парламент закон о лишении
обезумевшего от любви племянника всех прерогатив члена царской фамилии и
даже афганского гражданства. И -- что было еще существеннее -- наложил
секвестр на счета принца в западных банках...
Расплата за любовь наступила мгновенно и носила отнюдь не сказочный
характер. Принца вышибли из сказочного особняка и, растерявшегося от горя
и нищеты, вскорости арестовали, дали восемь лет "за незаконный переход
границы" и отправили к нам в лагерь... "И сказок больше нет..." --как поется
в какой-то песенке у Вертинского.
* * *
Мы сидели долго на завалинке возле старой бани. Мы выкурили почти
всю мою дневную табачную норму. Принц, очевидно, взволновался,
рассказывая случайному собеседнику историю своего жизненного крушения.
Смуглое его лицо, покрытое грязью и несмывающейся копотью лагерных костров,
стало бледнее обычного. Он замолчал на полуслове и вдруг, поймав мой взгляд
-- я смотрел на него -- грязного, жалкого, в опорках, в обрывках английского
демисезонного пальто, подпоясанного веревкой,-- сказал:
-- Я понимаю ваши мысли и ценю деликатность, с которой вы эту мысль не
высказываете вслух. Но со всей искренностью, на которую мне дает право
мое положение и приближающийся конец моей жизни, я хочу вам сказать:
нет,
я ни о чем не жалею!
Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно
счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту
любовь заплатил... За такое счастье нет достойной ее цены!..
Мое знакомство с принцем происходило жарким и тревожным летом
сорок первого года. Мы лихорадочно следили за войной на Западе, на
Балканах, мы чертили карты военных действий, спорили о том, как будут они
дальше развиваться. Но даже в это время, этих споров и разговоров, у меня из
головы
не выходил рассказ принца, банальная, трагическая и трогательная
история его любви. И все мне хотелось еще что-то узнать у него, расспросить,
что же было в этой ташкентской женщине, возбудившей такую невероятную, такую
благодарную любовь?..
Мне не удалось это сделать. Начавшаяся война смыла со всеми вопросами и
делами и это тоже... Вместе с самим героем этой романтической и трагической
сказки. В первые же дни войны всех иностранных подданных забрали со всех
лагпунктов и сконцентрировали на одной подкомандировке какого-то далекого
лагпункта. От нас ушел туда большой этап. В нем был и мой принц.
Умер ли он там или же выжил, был ли репатриирован на родину, прощен
своим кузеном, вступившим на престол?.. Может быть, и до сих пор живет он в
своих гератских дворцах -- старый, седой, окруженный детьми и внуками,
затаивший в душе свою незаконченную, оборванную любовь?.. А может быть, и
забывший ее под натиском новых впечатлений или новой любви?..
Но я никогда не забуду этой истории и часто ее рассказываю друзьям. С
удивлением, восхищением и искренним уважением к этому чувству. Все-таки
-- сказки есть!
КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 24
Стрела крана резко поворачивается, и тяжелый чугунный шар ударяется о
стену дома. С грохотом рушатся оконные переплеты, в зияющие проемы видны
внутренние стены комнат со следами портретов на выцветших обоях. Очень
обычное для Москвы зрелище.
Я стою на противоположной стороне улицы, смотрю на это, и внутри меня
что-то рушится, рушится с треском и отчаянием, как стены этого дома. И мне
кажется, что это не пыль закрывает разрушаемый дом, а слезы застят мне
глаза. Наверное, я испытывал бы нечто подобное, видя, как вот такая машина
уничтожает мое родовое гнездо на Ордынке; дом, с которым были связаны все
радости и горести моего отрочества, моей юности, почти всей жизни моей. Но
ведь не этот родной дом рушат! Разрушают проклятый, ненавистный и страшный
дом, где если и веселились когда, то только в незапамятные времена, когда
его хозяином был князь Голицын; или когда жили в нем художники и скульпторы,
и Пушкин ходил в гости к Карлу Брюллову, вернувшемуся из Италии... Так когда
это было, да и кто об этом думает!
Многие десятилетия в этом доме только плакали. Здесь было пролито
столько слез, что если бы они все сохранялись, потоками сбегая вниз к
Неглинке, то дом этот стоял бы на берегу соленого озера. Да, конечно, в
округе были дома и пострашнее. На моей памяти это учреждение -- обычно про
него говорили "это" или "оно" -- разрасталось, пуская свои метастазы по
соседним улицам и переулкам. Оно захватывало всю Большую Лубянку, от площади
до Сретенских ворот, и Лубянку Малую, оно заглотило многоэтажный универмаг и
девятиэтажный жилой дом; и постепенно на всех окнах домов этого района
появились одинаковые шелковые занавески, и подолгу вечерами эти окна
светились уютным адским светом. Были среди этих домов такие, мимо которых и
ходить-то было страшно. В этих домах пытали и убивали. Но там не было слез.
Там могли кричать и кричали от боли, от ужаса, от страха...
Но там не плакали. Во всяком случае я не помню и мне об этом не
рассказывали. Болевая точка этой гигантской раковой опухоли была тут.
Плакали здесь, в этом доме. На Кузнецком мосту, 24. Здесь помещалась
"Приемная". Приемная ОГПУ, НКВД, НКГБ, КГБ... Названия менялись, существо
оставалось прежним. И до самого последнего дня, перед тем, как ударить по
дому чугунной бабой, висела на нем вывеска "Приемная КГБ" и аккуратное,
золотом по черному, на десятилетия, на века сделанное объявление: "Прием
граждан круглосуточно"...
x x x
А ведь было время, когда я ходил в этот дом, совершенно не задумываясь
о том, каким он ко мне обернется. Это было, вероятно, году в 25-м. На
Кузнецком, 24, помещались "Курсы Берлица". Это были курсы, где по какой-то
системе, придуманной неизвестным нам, еще довоенным Берлицом, быстро научали
иностранным языкам.
Меня понесло на эти курсы потому, что мой двоюродный брат в это время
был в Китае начальником Политуправления у Чан-Кай-Ши. Меня с безумной силой
тянуло делать революцию в Китае, кузен мой обещал меня забрать с этой целью
к себе, при условии, если я выучу французский язык. Почему французский, бог
знает! Конечно, я ему поверил и устремился сюда, на Кузнецкий мост, 24.
Старый трехэтажный дом. "Приемной" на первом этаже еще нет. Она
появится после, вероятно, году в 35-м или 36-м.
Я быстро взбегал по лестнице на третий этаж. Лестница никогда не бывала
пустой. Потом уже, много-много лет спустя, я вспоминал, что, кроме меня и
мне подобных -- веселых, беспечных, часто элегантных, почти всегда
молодых,-- по этой лестнице подымались и другие люди: пожилые или молодые,
одетые хорошо или плохо, но все с печатью горя на лице, все --
неулыбающиеся, озабоченные.
Мы вместе входили или взбегали по лестнице и расходились: одни направо
-- на курсы Берлица, другие налево.
Дверь налево почти всегда открыта, поэтому не видна маленькая вывеска
на ней: "Политический Красный Крест". В открытую дверь был виден длинный
коридор, всегда забитый людьми.
Как страшно! -- ни разу тогда я не задумывался ни об этой странной
вывеске, ни об этих людях. Я бежал на свои идиотские курсы, где красивая,
молодая женщина с указкой в руках показывала нам на развешенные по стенам
красивые рисунки, по-французски объясняла: это -- красивый деревенский дом;
вот это девочка играет в волан. И еще подобную чепуху. На этих курсах
запрещалось употреблять какие бы то ни было русские слова.
Несколько месяцев я учился узнавать, как по-французски называются
разные, мне ненужные, предметы, и однажды на концерте в Колонном зале
услышал в ложе разговор двух дам. Они говорили по-французски, и я вдруг
потрясенно понял, что понимаю, о чем они говорят! Это было невероятное
ощущение! Впрочем, оно меня не подвигнуло на то, чтобы продолжать ходить
изучать французский язык после того, как мой кузен, вместе с другими
советскими советниками, бежал из Китая после переворота, устроенного
Чан-Кай-Ши. Я утратил всякий интерес к курсам Берлица и перестал ходить на
Кузнецкий, 24, и быстро забыл о двери налево, напротив курсов.
И узнал об этом помещении и людях в нем много позже, из рассказов
Рики. Вот она уж там побывала! Много, много лет она ходила в это
странное,
ни на что не похожее, ни в каких справочниках не упоминаемое
учреждение.
Странное и чужеродное всей нашей системе до такой степени, что
почтенные майоры и подполковники отказывались верить рассказам Рики о том,
что совершенно легально, почти два десятка лет существовал этот странный,
кажущийся нам теперь совершенно немыслимым, "Политический Красный Крест".
Не только я, но и эти профессиональные охранители ничего про него не
знали. И для них это было нечто нереальное, мифическое! Для них, но не для
Рики, не для многих сотен людей, подобных ей. Она приходила сюда два
десятилетия: еще девочкой, девушкой, молодой женщиной. Приходила
каждый раз, чтобы узнать, из какой тюрьмы в какую перевели ее отца;
сколько ему в очередной раз дали и что: тюрьму или ссылку и куда; когда
бывают свидания, передачи; она получала здесь продукты для передачи и деньги
для того, чтобы поехать на свидание в Суздаль или другой тюремный город...
Когда-нибудь историки обязательно займутся изучением этого
удивительного учреждения, как и личностью удивительного человека, его
создавшего и отдававшего ему все свои немалые силы и немалые, неизвестно
откуда взявшиеся, возможности. Одним именем Горького нельзя объяснить, каким
образом Екатерине Павловне ПЕШКОВОЙ удалось получить необыкновенное право
легально помогать политическим заключенным и их родственникам; право
узнавать, кто где находится, кого куда этапировали...
Все то, что теперь составляет глубокую государственную тайну, тогда
запросто можно было узнать в странном учреждении напротив курсов Берлица.
Коридор в нем разделял четыре небольшие комнаты. В самой маленькой
из них -- два стола. За одним -- Екатерина Павловна Пешкова, за другим
ее бессменный помощник -- Винавер. В другой комнате что-то вроде
бухгалтерии. Самая большая комната почти всегда забита людьми: ожидающими! И
еще одна большая комната, заставленная ящиками и продуктами, бельем,
одеждой. И совершенно непонятно: кто были эти люди, которые сидели за
столами в этих комнатах, погруженные целыми днями в чужие беды? А может
быть, и свои?
Сюда обращались родственники эсеров, меньшевиков, анархистов;
родственники людей из "партий", "союзов", и "групп", созданных, придуманных
в доме неподалеку, за углом направо. Здесь выслушивали женщин, стариков и
детей, и здесь их утешали, успокаивали, записывали адреса, чтобы невероятно
скоро сообщить, где находится их отец, муж, жена, мать, брат, сын... Когда
можно получить свидание, когда принимают передачи, когда --если нет для
этого средств -- можно прийти на Кузнецкий, 24, и получить продукты,
белье, одежду для этапа на Север или необозримый Восток.
Откуда брались эти продукты, эта одежда, эти, совсем немалые, деньги?
Они приходили, главным образом, из-за границы. От АРА, от
социал-демократических партий и учреждений, от разных благотворительных
обществ, от богатых людей. А может, и совсем небогатых, может, и от почти
бедных. Кто знает, как собирались эти деньги и как они шли сюда? Знала об
этом, вероятно, только сама Екатерина Павловна.
Каждый день, отсидев часы приема на Кузнецком, она садилась в
мотоциклет с коляской и отправлялась в тюрьмы, на таможню, на склады. А еще
чаще шла пешком -- тут же совсем близко, совсем рядом -- и договаривалась с
людьми из этого дома о переводе такого-то в тюремную больницу, о том, чтобы
такого-то заключенного перевести в тюрьму, более близкую к Москве,--у него
мать старуха, и ей трудно ездить на свидание на Север, на Урал. Она
договаривалась о пополнении тюремных библиотек, устройстве для арестантов
концертов, праздничных вечеров...
Как сказку, как невероятные волшебные сказки я слушал рассказы Рики о
том, что когда тяжело заболела ее мать -- по просьбе Екатерины Павловны --
ее отца выпустили из Бутырок на свободу "под честное слово" и он находился
на воле до выздоровления своей жены... Я слушал о новогоднем вечере,
устроенном в Бутырках для политических заключенных, о концерте в Бутырках,
на котором пел Шаляпин перед своим отъездом за границу.
И так длилось до самого тридцать седьмого года, до того дня, когда
Екатерина Павловна бессильно сказала Рике: "Все. Больше ничего не могу.
Теперь остается только низ, только первый этаж". Но для Рики и ей подобных и
низ не остался. И она, и почти все такие, как она, ушли в те тюрьмы, куда
они ходили на свидания.
"Политический Красный Крест" и все проблемы, которыми он занимался,
были ликвидированы по старому, верному, испытанному способу. По которому
Энвер-паша разрешал "армянскую проблему", а Гитлер "еврейскую проблему". Во
всех ссылках были арестованы все те, которых опекала Екатерина Павловна
Пешкова, собраны в тюрьмы, а затем расстреляны.
И были арестованы и, очевидно, расстреляны и Винавер, и те безвестные
мужчины и женщины, которые работали в "Политическом Красном Кресте". И
оставили на воле жить, мучиться и умирать только Екатерину Павловну. Она
унесла с собой в могилу разгадку этой тайны: кто, когда, каким образом и
почему разрешил ей легально поддерживать тот статус "политического
заключенного", само понятие которого сейчас стало чем-то противозаконным,
отрицаемым, - почти преступным.
* * *
И вот пришли годы, когда то, что Екатерина Павловна называла "низом",
стало расти вверх. "Низ" проглотил курсы Берлица и "Политический Красный
Крест", и соседние небольшие дома, в которых ютились какие-то, никому
неведомые конторы. И адрес "Кузнецкий мост, 24", стал столь же известен, как
и "улица Дзержинского, 2".
Когда ночью уводили с собой, то оставляли только единственные
координаты: "Кузнецкий мост, 24". И если исчезал человек среди бела дня или
темной ночью и обезумевшие родственники звонили по всем страшным телефонам,
то самая последняя инстанция "дежурный по городу" спрашивал: "В милиции
спрашивали?", "В скорую обращались?" и, выслушав утвердительные ответы,
удовлетворенно говорил: "Тогда обращайтесь на Кузнецкий мост, 24".
И этот ответ был самым страшным, самым безысходным. Возвращались из
больниц, могли возвратиться даже из милиции. Оттуда, куда посылал "дежурный
по городу", никто еще не возвращался. Большинство и не вернулись.
Вот тогда мне и было сполна заплачено за отсутствие интереса к
помещению напротив курсов Берлица.
За кремовые занавески самой "Приемной" мне тогда ни разу не пришлось
попасть. Туда пускали не всех. А я ходил во двор, за железные ворота.
Сколько же раз я туда ходил! Один ходил и с мамой, с Оксаной.
"На миру и смерть красна"... Конечно, есть в этом какая-то доля правды.
Но не думаю, чтобы тем, кого гнали на Бабий Яр, было легче от того, что
их были тысячи... Двор на Кузнецком был всегда, с самого утра, полон людьми.
Мужчины, женщины, дети. Больше всего женщин. Совсем старых и совсем молодых.
И все молчат. Или разговаривают почему-то шепотом. Хотя единственный
вертухай стоит только у калитки и с наслаждением начальственной суровости
смотрит на тех, кто еще позавчера, вчера принадлежал к касте "начальников".
Теперь они другие, ах какие же они другие!
Очередь вьется по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается
и выходит к "финишной прямой" -- к одному-единственному окошку в стене. Там,
в этом окошке, дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. В ответ на
заикающийся, заплаканный вопрос: "Вот у меня сегодня ночью почему-то пришли
и арестовали..." (это новички, значит...) следует окрик: "Фамилия, имя,
отчество". Потом окошко захлопывается и через минуту-две снова открывается.
Ответов было всего четыре: "Арестован, под следствием"; "Следствие
продолжается"; "Следствие закончено, ждите сообщения"; "Обращайтесь в
справочную Военной коллегии".
Никаких других ответов не было. Однажды впереди меня стояла женщина, на
вопрос из окошка ответившая: "Ясенский Бруно Яковлевич". Она пыталась
спросить еще что-то, но ей крикнули: "Узнаете, все узнаете потом!". И,
действительно, это было так. Мы все узнавали. Только когда и как? Эта
женщина, как и я, как и множество других на этом дворе потом попадали в
другие здания этого проклятого квартала и могли узнать о судьбе своих
близких более приближенно к действительности.
Очередь на Кузнецком была лишь началом хождения по другим дворам, к
другим окошкам. Здесь никогда не сообщали, где, в какой тюрьме сидит
арестованный. Чтобы узнать это, надо было ездить по тюрьмам: в Бутырки,
Таганку, Лефортово, Матросскую Тишину, Новинский бульвар... И там стоять в
длинных очередях, чтобы передать деньги-- единственная разрешенная форма
передачи, которая обезличенно, без сообщения от кого, зачислялась на
"текущий счет" арестованного. В этих окошках, куда надо было подавать
заполненный бланк и деньги, или брали -- и это означало, что он здесь,-- или
же отвечали:
"У нас нету!"
И тогда надо было ехать на другой конец города, в следующую тюрьму и
там пробовать передать деньги. И как счастливы бывали те, у кого эти деньги
брали! Значит, он тут, вот совсем недалеко, за этими стенами...
Нет, передачи -- даже вот такие,--это огромно! Я это понимаю, я
насобачился на передачах в тюрьмах Москвы, Ставрополя, Георгиевска. Передача
протягивает какую-то нить между пропавшим родным человеком, она означает,
что он жив, что есть надежда его увидеть. И как бывает страшно, когда тебе
протягивают назад бланк и деньги и говорят: "Выбыл". Все. Куда, когда,
насколько? Они тебе это не скажут.
И на Кузнецком, 24, нет уже Екатерины Павловны, которая все узнает, все
расскажет, поможет... Теперь надо ждать. Ходить в прокуратуру и там ждать
или же сидеть дома и ждать месяцами, а то и годами, когда вдруг придет к
тебе письмо с обратным адресом: "Почтовый ящик N5..." А еще чаще ждать,
ждать и не дождаться.
Никому не сообщали о судьбе тех, кто умер от пыток в следственном
кабинете, в тюремной камере или тюремной больнице, в теплушке или на
пересылках длинного и страшного этапа. Они все канули в неизвестность, чтобы
через двадцать лет эта неизвестность обернулась лживой бумажкой, где все --
и дата, и причина -- все было лживо. Кроме одного: умер.
Но какими же мы тогда все были неграмотными, как легко нас было
обмануть, как легко мы поддавались на эту ложь! Из всех ответов, получаемых
в окошке на дворе дома на Кузнецком мосту, самый страшный был, конечно,
ответ: "Справочная Военной коллегии". Эта справочная была совсем неподалеку.
Пройти Лубянскую площадь и сразу в начале Никольской -- небольшой кирпичный
дом Военной коллегии Верховного Суда. Кажется, это учреждение и сейчас там.
Вот там, в окошке "Справочной", давали ясный, прямой и всегда
одинаковый ответ: "Десять лет отдаленных лагерей без права переписки".
Других "мер наказания" этот суд не знал. Такой ответ мы получали, справляясь
и о Глебе Ивановиче, и об Иване Михайловиче: такие точно ответы
получали в этом кирпичном доме множество наших знакомых и друзей. И --
удивительно! -- мы радовались этому! Ну, хорошо -- десять лет -- много,
конечно, но это же все условно, сколько будет перемен, все еще может
обойтись, во всем еще разберутся... А что без права переписки -- ну, это
понятно: собрали в одном месте всех старых большевиков, всех бывших
наркомов, чекистов -- пока, до поры до времени, им не разрешают писать.
Потом разрешат! И в длинные вечера в нашем последнем доме в Гранатном
переулке мы бесконечно обсуждали, где могут находиться эти лагеря, какие там
условия жизни -- черт знает, что мы только не говорили!
И успокаивали себя этими предположениями и даже занимались старым
интеллигентским гаданием: наугад раскрывали том Блока и загадывали порядок
строки: в этой строке давалось темное толкование нашим надеждам. И только
раз вздрогнули от холода, когда Оксана раскрыла Блока на многажды
открываемом месте, прочитала: "И только высоко, у царских врат, причастный
тайнам,-- плакал ребенок о том, что никто не придет назад".
Только много лет спустя я понял, что Оксана была убеждена в этом --
никто не придет назад. Как не пришла она сама.
А ведь о том, что случилось, о том, что не придут они назад, можно было
догадаться и по разным другим приметам, признакам. В какой-то своей
очередной речуге о врагах народа Сталин требовал ужесточить расправу над
ними и выразил недоумение, почему не применяется такая мера, как
конфискация.
Вышинский все сделал. Все приговоры о расстреле дополнялись строчкой:
"С конфискацией всего имущества".
Тогда, осенью и зимой тридцать седьмого года, по всей Москве открылось
множество странных магазинов. Странных потому, что даже вывески на них
"Распродажа случайных вещей" были написаны на полотне, наспех. Эти магазины
появлялись на местах книжных, канцелярских, промтоварных магазинов. Они были
заполнены старой мебелью, потертыми коврами, подержанной или даже новой
одеждой, разрозненными сервизами, предметами антиквариата, картинами...
Это были остатки того, что было забрано, просто награблено
энкаведэшниками. Некоторые из них получали готовые квартиры со всем,
что в них было: мебелью, книгами, бельем, одеждой, всем, включая зубные
щетки и засохшие куски мыла в умывальнике. А другие, на каких-то базах, куда
свозили все это добро, выбирали себе по вкусу. И, конечно, по чинам. Которые
повыше, снимали сливки -- картины, дорогие ковры, антиквариат, книги в
красивых переплетах... Которые чином поменьше, удовлетворялись не баккара, а
простым хрусталем; не саксонским фарфором, а морозовским; они больше
напирали на отрезы, на богатую шубу... А уж то, что никто не хотел себе
забирать, свозилось
в эти магазины "Распродажи случайных вещей".
Осенью тридцать седьмого года я проходил по Сретенке мимо одного такого
магазина, и что-то меня толкнуло зайти туда. И войдя, сразу же, в глубине
магазина увидел наш диван... Длинный, неуклюжий диван, обитый потертой
тисненой кожей, со львами, вырезанными из черного дерева, по краям... Он
стоял в столовой, множество раз я спал на нем, когда еще был на Спиридоновке
гостем и оставался ночевать после долгого застолья, долгого ночного
разговора... А рядом с диваном в магазине стояла мебель из кабинета Ивана
Михайловича: огромный письменный стол, высокие неудобные стулья,
мастодонтовские кресла...
Остатки какой-то крупночиновной петербургской квартиры, доставшейся
секретарю Севзапбюро ЦК РКП(б) Москвину и затем Софьей Алксандровной
перевезенной в Москву. Теперь эта обстановка завершила свой закономерный
круг во временном магазине награбленных вещей на узкой московской улице.
И хотя я тогда еще ничего не знал, но понял -- это и есть конец. В
бумажках о смерти и о реабилитации Ивана Михайловича указываются разные и
все лживые даты его смерти, но теперь-то я знаю, что в этих магазинах
продавались вещи уже убитых. Их убивали в тот же самый день или даже час,
когда им прочитывали: "...с конфискацией всего имущества". И после этого
начиналась дележка этого имущества.
Они ведь были не только убийцами, но и мародерами. И -- как всякие
убийцы, грабители и мародеры -- они все свои дела обделывали в глубокой
тайне, скрывая убийство за "без права переписки", грабеж за "распродажей
случайных вещей".
Прошло почти полвека, но наследники грабителей, а может, и еще сами
грабители и убийцы живут среди награбленных картин и ковров, едят с
награбленной посуды... Ну, фиг с ними! Надо же расплачиваться за весь этот
долгий путь познания, начавшийся со двора дома 24 по Кузнецкому мосту...
x x x
А я побывал еще раз в этом доме. И не во дворе, а там, внутри, за
кремовыми занавесками...
Это было ровно через двадцать лет, летом пятьдесят седьмого года. В
кабинет Дома детской книги, где я работал, позвонил телефон, и очень
ласковый и интеллигентный голос представился: старший следователь
Комитета государственной безопасности, майор такой-то... И -- "не могли
бы вы, Лев Эммануилович, в ближайшее время выбрать часик, чтобы зайти к
нам..."
Я предпочел не откладывать подобное свидание и через два часа входил в
"Приемную". Она была тиха, спокойна, даже чем-то уютна. Несколько человек
ожидали кого-то, сидя на удобных мягких стульях. Ожидать мне долго не
пришлось. Из каких-то внутренних дверей вошел в приемную молодой еще и очень
интеллигентного вида человек в форме майора, подошел ко мне, представился и
сказал, что мой пропуск у него и мы можем идти.
И мы пошли. Туда. В тот самый дом. Майор сам предъявил мой пропуск
часовому, усадил меня в лифт, поднял на какой-то этаж, открыл ключом свой
кабинет, пропустил меня вперед и усадил в мягкое кресло у самого письменного
стола. Я оглянулся: да, табуретка была.
Прикованная около двери к полу, свежепокрашенная и вполне готовая для
арестантских задов. Но я теперь, или пока, сижу не на ней, сижу в креслах.
Майор сразу же начал разговор:
-- Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело
по реабилитации товарища Селянина. Он был арестован и погиб в лагере, будучи
совершенно ни в чем не виновным, только потому что был незаконно арестован и
расстрелян его отец -- старый большевик.
...Игорь Селянин. Мой старый товарищ по работе в Центральном Бюро юных
пионеров. Высокий, некрасивый и обаятельный в своей некрасивости парень.
Веселый выдумщик, верный товарищ...
-- И хотя мне незачем изучать его дело, которого-то и не было, но
формально для реабилитации требуются показания двух коммунистов, которые его
знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она
мне назвала вас, как знавшего товарища Селянина...
Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я
вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен...
А интересно сидеть вот так, в этом кабинете! Я встал и подошел к окну.
Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое пятиэтажное здание с
зарешеченными окнами, с намордниками... Внутрянка.
-- Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович?
-- Очень мне знакомый дом.
-- Почему знакомый?
-- Я в нем сидел.
-- Как, и вы? Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить!
И полилась его длинная, взволнованная речь. Да, он наслышан о всех
ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых
сотрудников тут никого не осталось, ни одного человека, но он и его товарищи
наслышались об этих страшных фактах навсегда исчезнувшего беззакония.
Я стоял у окна и, глядя на Внутрянку, рассказывал о том, каким хорошим,
идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно
преданным был Игорь Селянин. Майор быстро (неужели уже насобачился)
исписывал листы допроса. Потом сказал:
-- Ну, вот и все. Пожалуйста, подпишите.
И тут я глупо спросил:
-- Где подписывать?
Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно
искренне, он сразу утратил свой гебешный вид и приобрел черты
человечности...
-- Почему вы смеетесь?
-- Боже мой, боже мой -- как устроен человек, как быстро он,
оказывается, способен забыть! Вы столько раз подписывали показания и уже
забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа...
Ох, дьявол! Как же я мог такое забыть! Мне стало стыдно, и этот стыд не
проходил, пока майор подписывал мне пропуск, любезно прощался со мной,
провожал меня до лифта.
Стыд терзает меня и сейчас каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого
майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все
забывается. Как говорится в поговорке "Тело заплывчиво, память забывчива"...
И я помог ему увериться в этой неправде!
Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл. И не хочу
забывать. И поэтому, наверно, испытал какое-то отчаяние, когда видел, как
рушат этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы
он исчезал. В нем наши жизни, наша память.
Снесут его и построят на его месте какое-нибудь модерновое
"административное здание". Или же разобьют сквер и дети будут бегать по
усыпанным песком дорожкам, проложенным на том дворе, где мы стояли в жаркие
дни лета, непогоду осени, холод зимы...
Но все равно. Кузнецкий мост, 24, останется жить. В нашей памяти,
памяти наших детей и детей их детей. И память эту нельзя разрушить
никакой чугунной бабой. Она останется!

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.