
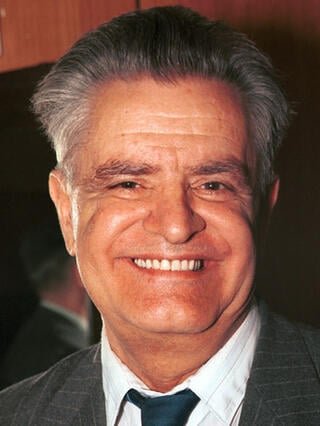
* Подготовка электронного текста для некоммерческого использования --
С. Виницкий.
Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своми знаменитыми
родичами, я молчал, я давал им высказаться.
Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя
особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте
были пограничники, на втором -- летчики, на третьем -- танкисты, а потом
остальные. Пожарники проходили вне конкурса.
Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не
служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно
успешно.
-- А у меня дядя сумасшедший,-- говорил я спокойным голосом, отодвигая
на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший --
это необычно, а главное, почти недоступно. Летчиком и пограничником можно
стать, если хорошо учиться, так, по крайней мере, утверждали взрослые. А
они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что
ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.
Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть,
или заболеть менингитом.
-- А он настоящий? -- спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.
-- Конечно,-- говорил я, ожидая этого вопроса,-- у него справки есть,
его смотрели профессора.
Справки и вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке "зингер".
-- А почему он не в сумасшедшем доме живет?
-- Его бабушка туда не пускает.
-- А вы не боитесь его по ночам?
-- Нет, мы привыкли,-- говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая
следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается
ли он, но я оставлял их без внимания.
-- А ты не сумасшедший? -- догадывался кто-нибудь спросить, глядя на
меня проницательными глазами.
-- Немножко могу,-- говорил я со скромным достоинством.
-- Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? -- бросал
кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предложений. Фран-Гут
был знаменитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы
все за него болели.
Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и
остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не
вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с
ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому
малоправдоподобная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце
концов заглушила бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности
упал с арабского скакуна.
Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим.
-- Он не сумасшедший,-- говорила она,-- он душевнобольной.
Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать
действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий
сумасшедший, хотя и почти нормальный.
Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел
песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.
Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды,
начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких
случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно
что-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом
бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка
заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под
кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.
Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат.
Вытряхните на стол тетрадь второклассника -- там будут все слова, которыми
дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений,
которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не
встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего
душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: "Удушу мать".
Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски
и по-турецки. По-видимому, сочетания слов в память ему врезались по степени
накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают
выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.
Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным.
Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности.
Сливал помои, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил
базарные сумки, колол дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда
мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо
шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как
подброшенные взрывной волной.
Бабушка его жалела, она считала, что он может надорватья на работе.
Иногда, в дни генеральной уборки, она насильно укладывала его в постель и
объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал
растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему
надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в
постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал
плечами и говорил: "Бабушка не разрешает". Он бабушку называл бабушкой, хотя
она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.
Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в
пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу
избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему
об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.
Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он
тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл
каждые десять -- пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал
полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут
же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно
здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог
не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.
Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей -- воду с
сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с
фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой
и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил:
"Коля пить хочет".
Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и
чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к
детским слабостям.
А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так
уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но
чаще его брила сама тетка.
Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока
тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В
такие минуты можно было из-за теткиной спины показывать ему язык, грозить
кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф.
И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове, как бы
возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись
бритве. Иногда тетка просила меня подержать ему ухо или натянуть кожу на
шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого
удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я
держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и
рассматривая шишки мудрости на его голове.
Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после
бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение
римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после
бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский
сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм
деревенского пасечника.
Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо
памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на
памятник, говорил: "Это я". То же самое повторял, увидев портрет человека,
поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо
сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане.
Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это
могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное
направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от
этой привычки, но ничего не получалось.
-- Нельзя, нельзя, комиссия,-- грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в
портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.
-- Я, я, я,-- отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по
тому же портрету. Он ничего не понимал.
Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто
глупыми.
Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи,
исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы.
Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он
должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие
писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной
эксплуатации человека человеком.
Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасливо подымались
по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала
ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не
двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом,
извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая
на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки
дядины документы.
-- У него золотой характер,-- говорила она.-- А физический труд ему
полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер
воды принесет от скуки, вот и все.
Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и
глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.
Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев,
спрашивал у дяди:
-- Нет ли жалоб?
Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.
-- Он у нас плохо слышит,-- говорила тетя с таким видом, как будто это
был его единственный недостаток.
-- Жалобы, говорю, есть? -- громче спрашивал тот.
-- Батум, Батум...-- задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал
злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты
крайнего раздражения.
-- Ну какие у него могут быть жалобы? Он шутит,-- говорила тетя,
очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога.-- Он у меня живет как
граф,-- добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии.--
Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим
инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.
Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.
После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя, назло
соседям, посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь,
явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.
Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не
знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.
За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности,
слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали
жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное,
что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало
тумаков.
Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у
плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь
книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце
концов этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю
книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими
глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен
выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу
удержаться.
Простейший способ нарушить его спокойствие -- это долго и пристально
смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза
и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает.
Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотря я или нет. Я продолжаю
смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему,
что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого
труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:
-- Этот дурачок меня дразнит.
Он не хочет раньше времени подымать ненужный шум, он говорит для меня.
Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.
Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему
хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он
прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил
ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю,
растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало.
Тогда раздражается скандал.
-- Он смотрит на меня, я его убью! -- кричит дядюшка, и злые огни
вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю
голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.
-- Что же, ему глаза выколоть, что ли? -- говорит бабушка и, дав ему
легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так
его раздражает.
Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает
подзатыльники, хватает полено или кочергу, и тогда наступает страшная
минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин.
"Боженька,-- шепчу я про себя,-- спаси на этот раз, и тогда я никогда в
жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с
бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси". Но, видно, я не
слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря
на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал
путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение --
неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это
довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в
ярости.
Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его
обезоруживают. Какое-то врожденное благородство останавливает его от удара.
Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в
недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и
такими жалкими одновременно.
Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся
глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил
по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он
даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть
сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик
его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не
мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял,
по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся
глухонемым.
Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не
сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного
смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я
быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но
шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали,
а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы
его кто-нибудь не отравил.
Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он
что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он
тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались
каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочка!
Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего
странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том,
что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть,
внутри удилища был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской
подводной лодке?
Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в "Пионерской правде" большой
заголовок: "Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!"
Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:
"С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его
близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом
деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время
выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но
пионер не растерялся. Это была борьба нервов". И дальше в таком же духе и
даже еще лучше.
Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у
дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той
же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за
водой, вытащил удилище из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде,
стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но
удилище оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что
самое первое звено у основания удилища не имело естественной перегородки,
она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда
просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я
закопал удилище в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.
Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но
вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в
холодке, я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через
окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я вошел в
кухню и сел против него за стол. Главное, решил я,-- напор и неожиданность.
Он думает, что начну дразнить, а я на самом деле...
-- Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг,-- сказал я отчетливо и
почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на
поверхности газированной воды.
Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг,-- видимо, я
доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых я
читал, в том числе сам майор Пронин.
-- Отстань,-- сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он
говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было
охоты связываться со мной.
Ни один мускул на его лице не дрогнул. "Железный человек",-- подумал я,
восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту
минуту.
-- Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали,-- великодушно
отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они
вселяли уверенность в правоте дела.
-- Мальчик сумасшедший,-- сказал дядюшка с некоторым оттенком
раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было
своего имени.
"Увиливает, шельма",-- подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил,
что пора намекнуть ему кое на что.
-- Рыбка не клюет? -- спросил я, проницательно улыбаясь и глядя ему в
глаза.-- Море волнуется или удочка не годится?
-- Удочка? -- повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие
мысли.
-- Вот именно, удочка,-- сказал я, поняв, что ухватился за то самое
звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.
-- Моя удочка? -- повторил он, начиная что-то соображать.
-- Вы попались на свою удочку, подполковник! -- сострил я и,
откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.
-- Удочка, удочка, удушу мать! -- пробормотал он в сильном волнении и,
что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.
-- Ни с места! -- крикнул я.-- Дом оцеплен!
-- Батум! -- крикнул он и побежал в комнату.
Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдаться и
сказать: "На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...",-- он побежал
искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.
Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.
-- Украли удочку! -- кричал он в ярости, пытаясь схватить меня.
-- Добровольное признание облегчит вашу участь! -- кричал я в ответ,
бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом
английской разведки.
-- Вор! Удочка! Удушу мать! -- кричал он, возбуждаясь от схватки.
-- Назовите сообщников! -- орал я в ответ, срезая угол стола. В этом
было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал
мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть
кулаком вдогонку.
Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьет, а
другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.
В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы
закричал:
-- Бабушка!
Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был
слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться.
Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно
оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.
-- Удочка, удочка,-- лепетал он, растеряв от волнения и те немногие
слова, которые знал.
И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в
жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему
удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И
не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать
его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную
привычку и принимать во внимание более сложные соображения.
Я сказал, что он на меня напал, но побить все же не успел. Это был
примиренческий выход, к сожалению самый распространенный.
В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.
Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой
любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был
влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его
страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.
Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную,
самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от
утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую.
Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он
чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?
Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей
поручали перешивать старые вещи, детские рубашки, трусы и всякую мелочь.
-- Оборочки, манжетики,-- говорила она, суетливо обмеривая заказчика
сантиметром и стараясь казаться профессионалом.
Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда
и ничего не давали в счет будущих заказов.
-- Спасибо, Фаиночка, сочтемся,-- говорили ей при этом.
-- За спасибо хлеба не купишь,-- отвечала она, горестно усмехаясь с
некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на
заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.
В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя
Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной
неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости
приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им
подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали.
Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.
-- Она дерется, как мужчина,-- говорили они.
Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были
рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они
терпеть друг друга не могут.
-- Рыжая команда! -- бывало, кричит тетя Тамара, стоя у бельевой
веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.
-- Ты сама рыжая,-- отвечает тетя Фаина вполне справедливо.
-- Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета,-- усмехается тетя Тамара.
-- К тебе матросы ходят,-- нервничает тетя Фаина.
-- Интересно, кто к тебе пойдет? -- ехидно говорит тетя Тамара.
-- У меня муж есть,-- доказывает тетя Фаина,-- все знают моего мужа, он
честный человек.
-- Начхала я на твоего мужа,-- как-то обидно говорит тетя Тамара и,
развесив белье, удаляется в комнату.
Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю,
это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал
в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или
сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.
Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости,
видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос
профессиональной плакальщицы.
Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и
смотрел на нее томными глазами.
-- И за что только он меня так любит? -- говорила она, если у нее было
хорошее настроение.
Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была
кухонная пристроечка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по
дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от
времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь
угадать по выражению лиц соседок, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров.
Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто
она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное
для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы,
которая увлеченно что-то клюет, а потом, вдруг вспомнив про опасность,
быстро подымает голову и осторожно озирается.
Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и,
наклонившись к фанерной стене, следил за ней в щелочку. Он ничего не мог
увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог
стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила иэ себя и не кричала
тете через весь двор:
-- Скажите ему, что у меня есть муж, а то он опять за мной ухаживает.
Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на
месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя
мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.
-- Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится,-- советовала
тетя Фаина.
Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через
час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный
уголок.
Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о
своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник,
мирный и добрый человек.
-- Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает,-- говорил он
полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает
свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку,
пробитую дядей в кухонной стене.
Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из
них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.
Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что
тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его
выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный
протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не
стыдно!
Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания
своей жестокой возлюбленной.
Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал,
куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о
жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой
теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее -- они больше
нуждаются в их защитной любви.
Тетя потом говорила, что перед смертью к дяде пришла ясность ума, как
будто судьба на мгновение решила ему показать, каково быть в здравом
рассудке. И это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло
хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной
пустоты в другую.
Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было
красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.
Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве
что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил
мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только
больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть
свою наготу.
Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в
деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя,
мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за
спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а
навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий
грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с
солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому
что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость
этого маленького путешествия.
Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он
пел, и пение его было простым и радостным, как пение птиц.
http://lib.kharkov.ua/FISKANDER/isk_moj_dyadya.txt

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.