Михаил Синельников
АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Вот что написано в мемуарном очерке моего отца:"Заболоцкий часто повторял стихи Маршака: «Под пальмами Бразилии / От зноя утомлен, / Шагает Дон Базилио, / Бразильский почтальон». При этом говорил, что Маршак не имел успеха как лирический поэт, но нашел свое истинное призвание в другом жанре — жанре детской литературы» .И, да, конечно, Маршаку было суждено стать любимым поэтом детей многих поколений(тем более,что ведь родители покупают своим детям те книги,которые сами любили в детстве). И ещё - блистательны многие его переводы. Однако, будем в отборе жестокими и признаем, что и то и это - особые статьи. Из "взрослых" стихов я взял бы в антологию немногие (и сравнительно поздние, не те, что сочинялись вундеркиндом и пылким юношей).И всё же какое-то место для них вижу. Иногда повторяю "Люди пишут, а время стирает..." и "Мы принимаем всё, что получаем..."
САМУИЛ МАРШАК (22.10(3.11).1887 г., Воронеж — 4.7.1964 г., Москва; похоронен на Новодевичьем кладбище). Фамилия М. аббревиатурная и состоит из начальных букв полного имени прославленного средневекового раввина: Морену Рабби Шломо Клугер. Все предки известного детского поэта были потомственными истолкователями иудейского закона: этот род считается у евреев знатным и высокочтимым. Однако отец М., также проведший ранние годы над Талмудом, был химиком-самоучкой и мастером на мыловаренных заводах. После ряда переездов семья обосновалась в Острогожске. В 1899 г. М. поступил в острогожскую гимназию. Будучи гимназистом младших классов, писал шуточные стихи и переводил античных авторов. Важнейшее событие в жизни М. состоялось в 1902 г., когда он находился на каникулах в Петербурге и был представлен В.В. Стасову, увидевшему в еврейском мальчике начинающего «нового» Пушкина. Стасов со всем жаром принял участие в судьбе М., рассказал о нем Льву Толстому и Великому князю Константину Константиновичу, способствовавшему переводу М. из острогожской гимназии в 3-ю петербургскую полупансионером (для чего пришлось преодолеть установления о процентной норме). В доме Стасова М. познакомился с представителями художественной элиты — с Репиным, Глазуновым, Шаляпиным, Максимом Горьким. В их отношении к М. сочетались интерес к способному подростку и сочувствие к его угнетенному народу. На вечере памяти скульптора М.М. Антокольского исполнялась посвященная покойному кантата Глазунова и Лядова на слова М. Два года (1904–1906) М., нуждавшийся по нездоровью в перемене климата, прожил в Ялте на средства Горького и Шаляпина (ему пришлось перевестись в Ялтинскую гимназию). В юные годы М. отдал дань палестинофильским настроениям, переводил Бялика, писал стихи на библейские темы, сотрудничал в еврейских русскоязычных изданиях. Побывать в Палестине удалось ему в 1911 г. (на корабле М. познакомился со своей будущей женой С.М. Мальвидской). Цикл его палестинских стихов был опубликован петербургскими газетами.
Окончивший гимназию экстерном (1908), М. жил литературным трудом и стал (под многими псевдонимами) постоянным автором ряда столичных и провинциальных изданий. Печатался в «Сатириконе» и как сатирик испытал сильное влияние Саши Черного. Сатирические и шутливые стихи М. были более востребованы, нежели его лирика, простая, ясная, ориентированная на поэтику пушкинской поры. Из современников больше других М. ценил Блока и Бунина и в целом избежал влияния модернизма.
В 1912–1914 гг. М. жил в Англии и в Ирландии, учился на факультете искусств Лондонского университета. Свои очерки об английской жизни посылал в петербургские газеты. С этого времени стала постоянной работа М. над переводами из английских поэтов, он переводил Шекспира, Блейка (пожизненное увлечение М.), Вордсворда, Колдриджа, Бернса, английские и шотландские народные баллады. Летом 1914 г. М. вернулся в Россию, был по нездоровью освобожден от воинской повинности, жил в Воронеже. В 1917 г. переехал в Екатеринодар, где заведовал секцией детских домов и колоний местного Наробраза. В годы гражданской войны сотрудничал в деникинской прессе, работал в газете «Утро Юга», писал антибольшевистские фельетоны. После прихода красных в 1920 г. вместе с Е.И. Васильевой (Черубиной де Габриак) организовал детский театр, для которого М. и Васильева совместно писали пьесы. Переехав в 1922 г. в Петроград стал одним из зачинателей советской детской литературы . С гордостью он писал, что знаком «с читателем двухтысячного года». И в самом деле, его книги были и остались любимым чтением многих поколений детей. Признание получила и работа М., одного из выдающихся мастеров перевода. М. четырежды была присуждена Сталинская премия, а в 1963 г. он получил и Ленинскую — за книгу «Избранная лирика».
---
ПЛАКАТ 1941-ГО ГОДА
Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война
* * *
Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью.
Мосты и переулки говорят.
Беседуют между собой балконы.
И у платформы, выстроившись в ряд,
Так много сердцу говорят вагоны.
Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.
Сегодня старый маленький вокзал,
Откуда путь идет к финляндским скалам,
Мне молчаливо повесть рассказал
О том, кто речь держал перед вокзалом.
А там еще живет петровский век
В углу между Фонтанкой и Невою…
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.
* * *
Люди пишут, а время стирает,
Все стирает, что может стереть.
Но скажи, — если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?
Он становится глуше и тише,
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.
* * *
Ветер жизни тебя не тревожит,
Как зимою озерную гладь.
Даже чуткое сердце не может
Самый легкий твой всплеск услыхать.
А была ты и звонкой и быстрой.
Как шаги твои были легки!
И казалось, что сыплются искры
Из твоей говорящей руки.
Ты жила и дышала любовью,
Ты, как щедрое солнце, зашла,
Оставляя свое послесловье —
Столько света и столько тепла!
* * *
Мы принимаем все, что получаем
За медную монету, а потом —
Порою поздно — пробу различаем
На ободке чеканно-золотом.

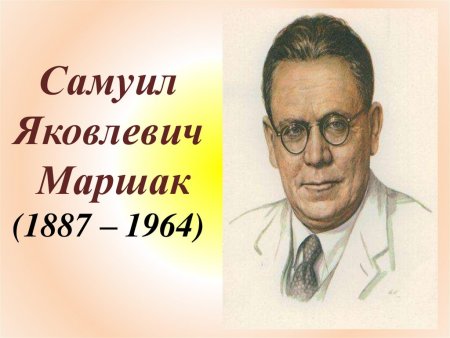
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.