Вячеслав Егиазаров

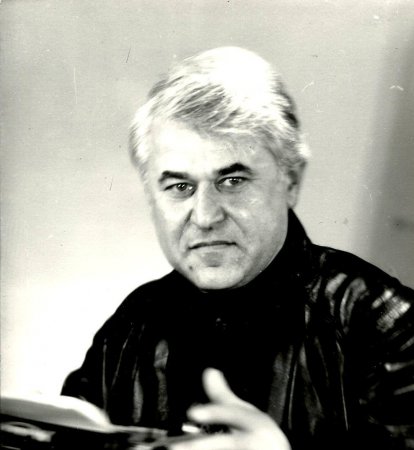
Волна, как плеть, хлестнёт по молу,
утробный стон заглушит всплеск,
в глазах безумных богомола
таится мысли хищный блеск.
Он вскинул лапы, как в молитве.
Творит намаз. Он – Богомол!
А волны в тяжком рваном ритме,
нет-нет, да и ударят в мол.
Зачем на веточке мимозы,
бесстрастный, будто впавший в сон,
часами, не меняя позы,
под крымским солнцем замер он?
Что в безднах глаз его таится?
Что знает он?
Он ждёт кого?
Ни нам ответа не добиться,
ни он не скажет ничего.
И почему той мысли отблеск,
готовность вечная к броску,
инопланетный этот облик
тревогу сеют и тоску?
Не знаю!.. Может, сам крамолу
ношу в душе?
С неё и спрос!
Зачем цепляюсь к богомолу,
что лапу, аки крест, вознёс?
Ведь насекомое! Не дьявол,
которого, все знают, нет.
наверно, непонятен я вам,
смотрящим «Animal planet».
Не знаю!.. Вдаль бегут барашки,
на гальке мокрый рваный ласт,
хлестнёт, как плеть, волна с оттяжкой
и стон утробный мол издаст.
Душа замрёт, сожмётся будто,
свет словно бы темнее стал,
свинцовой зыбью тронет бухту
низовки налетевший шквал.
И ни на что уж не похожи
моя угрюмость, нервный смех.
Как объяснить мороз по коже
от ледяных офсеток тех?
Я прочь несу мои вопросы
и долго чувствую спиной,
как богомол в листве мимозы
следит внимательно за мной…
ВОЙДИ В МОЙ ХРАМ
Ставри-Кая*, как храм в лесу,
туманен крест на фоне сосен,
я всю её перенесу
в строфу, – её, и эту осень.
Затем, что стих с молитвой схож,
он сам диктует путь поэту,
и если ты не толстокож,
то ты почувствуешь всё это.
Войди в мой стих,
войди в мой храм,
забудь тщету, коварство славы,
пусть взгляд гуляет по горам,
по этим соснам величавым.
И с высоты Ставри-Каи,
не побоись (у края стань же!),
увидишь все грехи свои, –
как мог ты их не видеть раньше?
Вот и покайся! Облегчи
не жизнь, так душу, чтоб не стыла,
уже закатные лучи
простёрло над землёй светило.
Быт, где полно обид и драм,
порой действительно несносен;
Ставри-Кая стоит, как храм,
на фоне этих гор и сосен.
А осень трогает уже
листву и травы осторожно,
и так спокойно на душе,
что и представить невозможно…
*Скала Крестовая.
Ставрос (греч.) – крест, он некогда стоял и сейчас венчает этот утёс.
ЖЕСТОКИЙ ЗАКОН
Упругий джаз качает звёзды в небе,
кафешки в скверах свой ведут улов.
Не рифмовать слова сегодня мне бы,
а просто побродить без лишних слов.
Но вот пишу. Июнь в разгаре. Лето.
Прошу, отстань, метафора, не лезь.
Я так мечтал когда-то стать поэтом,
что это превратилось вдруг в болезнь
довольно странную: рифмёшки, стопы, строки,
свои победы, праздники, грехи.
Есть у поэзии закон весьма жестокий:
всю душу забирают – всю! – стихи.
Не ими – ты, они тобой владеют,
свободный раб, ты чтишь их высший суд,
то вдруг подбросят новую идею,
то болтовнёй потешат и… сбегут.
Покоя нет, всё маешься. Запущен
недуг. Одно и красит твой удел,
что точно так страдал великий Пушкин
и Лермонтов возвышенно болел.
Ты – не они! Пора расставить точки
над всеми i в проигранной борьбе.
Все гении – по сути! – одиночки,
а это запредельный груз в судьбе.
Ах, раньше б знать и остеречься мне бы!
Ах, остеречь хотя бы новичков!..
Упругий джаз качает звёзды в небе,
как ветер крону в блёстках светлячков…
В ЭПОХУ ЛЖИ И МАТА
В эпоху лжи и мата,
увы нам, жизнь груба,
издержками чревата
поэзии судьба.
И скурвиться не сложно
в такое вот житьё,
когда идея ложна,
но пестуют её.
Её – верха лелеют,
она им – very good! –
(покуда овцы блеют,
их догола стригут!).
И вот уже бездарность
взошла на пьедестал:
в опале гонорарность,
спрос на стихи упал.
И брат идёт на брата
в угаре лжеидей,
поэзия чревата
всей ахинеей дней.
Вражда ломает строки,
корёжит ритма стать,
не может быт жестокий
поэзию питать.
Где торжествуют чресла,
где правят блат и грим,
не жди её – исчезла
поэзия, как дым.
Лжи, пошлости и мата
речь бездарей полна,
она ли виновата,
что бедствует она?
Но всё же сердце знает:
под звонкий птичий альт,
упрямо прорастает
травою сквозь асфальт…
КИПАРИСЫ НАД КРЫШЕЙ
Ничего не попишешь,
там отпустит, здесь жмёт;
каждый в собственной нише
в мире этом живёт.
И меж словом и делом,
то ленясь, то спеша,
тяготиться вдруг телом
начинает душа.
Ей, возвышенной, тесно
на земном вираже,
да и телу, коль честно,
нелегко с ней уже.
В нише собственной каждый
обитает давно,
только творческой жажды
утолить не дано.
Град сечёт, или ветер
трубно воет лосём;
всё бывает на свете
да подвластно не всё.
Кипарисы над крышей,
как ракеты в час N,
волны тише и тише
трутся к ночи у стен.
Городок засыпает,
затихают сады,
и песком засыпает
время наши следы.
Я ЛЮБЛЮ В АКВАРЕЛЬНОЕ НЕБО С БАЛКОНА СМОТРЕТЬ
Акварельное небо меняет под вечер тона,
в скверах, парках дрозды распевают весенние песни,
кучу туч дождевых, психанув, уволок сатана,
осознав, наконец, что на юге сей скарб неуместен.
И уже побежали спортсмены, ожил велотрек,
и скворцы захлебнулись руладами в буковой роще,
и уже ХХI-ый, издёрганный алчностью век,
стал как будто бы мягче, добрее как будто и проще.
Над кварталами Ялты то чайки парят, то летят,
чертыхаясь, вороны, то ласточки кружатся в небе;
кто на них остановит случайно внимательный взгляд,
тот забудет на миг суету и заботы о хлебе.
Это надо душе, как бальзам, как молитва в тиши,
как ребёнку игрушка, как в косы весёлая лента.
Если ты из прагматиков, то хохотать не спеши,
а, подумав, признай пользу этих счастливых моментов.
Я люблю в акварельное небо с балкона смотреть,
в Ялте сливы цветут, и уже появляется завязь,
и как будто исчезли такие понятья, как смерть,
вероломство друзей, и коварная злобная зависть.
И как будто исчезли все беды, и их не вернуть
ни зиме, ни судьбе, ни химерам другим одичалым,
и в заливе парчовом, мерцающем тяжко, как ртуть,
появились дельфины, султанок сгоняя к причалам.
Над цепочкою гор перламутровый меркнет закат,
пик Ай-Петри, как замок, рельефен на матовом фоне,
и морского прибоя ритмичный, за сквером, раскат
мне дыханием вечности кажется здесь, на балконе.
ВСЁ ЖЁСТЧЕ ВРЕМЕНИ ЛИМИТ
Через тропинку, семеня,
дождь прошмыгнул. Запахло сеном.
Спешит ежиная семья
и значит – лету скоро смена.
Ну что ж?
Для грусти есть причина –
всё жёстче времени лимит.
Средь мокрых веток паутина
хрустальной люстрою висит.
Когда в беде угрюмы лица
и на тебе вины печать,
ты знай: нам многое простится,
но сам себя не смей прощать.
Не смей! Поблажками не тешься!
Мы склонны к этому, увы.
На Демерджи темнеет плешь вся
от высохшей в жару травы.
Парит орёл. Отвесны скалы.
Тропа крута, чтоб пыл твой сбить.
В судьбе у каждого не мало
того, что хочется забыть.
Побудь в горах. Один. Немного.
Здесь ближе к Богу и вольней,
и здесь видней твоя дорога,
а это много – раз видней!
Ну, всё!
Пора!
Не всё допето.
Не всё сказал, о чём хотел.
Лишь жаль, что отгуляло лето
и клён, как в песне, пожелтел…
КРУЖАТ ЛИСТЬЯ, КАК В СТРОКЕ СЛОВА
Тополь оплывает, словно свечка,
грусть моя осенним дням под стать.
Я хотел бы жить на свете вечно,
только старым не хотел бы стать.
А шиповник лампочки развесил,
ярко светит, чтоб не сбился вдруг.
Вот смеюсь я – мир со мною весел.
Вот я плачу – никого вокруг.
Осень затяжная, как сказанье,
кружат листья, как в строке слова,
вывесил паук своё вязанье,
предлагает мошкам кружева.
Это всё придумано не нами:
будем петь, смеяться и страдать.
Юность не удержишь, как сетями
ветер и волну не удержать.
Что ж.… И пусть!
И всё же, ей – спасибо! –
и моё прощальное –
прости!..
Без потерь и горестных ошибок
невозможно к зрелости прийти…
СНОВА СНИТСЯ
Снова осень. В дымке сизой тают,
тихо уплывают корабли;
небеса усталые листают
стаи журавлиные вдали.
Почему-то грустно и тревожно,
и мечтается совсем легко,
словно счастье было так возможно,
а случайно упустил его.
Снова снится, что вернулась юность,
побродила рядом, да и в путь.
Я б хотел, чтоб многое вернулось,
только ничего уж не вернуть.
Не вернуть, но и забыть не можно,
всё сгорело, и растаял дым,
то, что мне казалось невозможным,
оказалось под конец простым.
А вершины в синеве, как в призме,
брезжат, лилипутам по плечу.
Кажется, легко иду по жизни,
только знаю, чем за всё плачу…
Это, поубавив резких линий,
мир с душой с утра накоротке;
блики солнца в зябкой паутине
отдыхают, словно в гамаке.
И в куплеты, что пока не спеты,
падают слова, как семена:
это улетающее лето
расплатилось с осенью сполна…
Я ТЕБЕ ПОКАЖУ ПОБЕРЕЖЬЕ ДО САМОЙ АЛУШТЫ
Одичалое солнце над Крымом бредёт по июлю;
снять квартиру у моря и дорого нынче, и сложно;
пляж гудит городской, словно кем-то встревоженный улей,
и цветут олеандры у стен «Ореанды» безбожно.
Золотым чебуреком луны половинка повиснет
над ночною яйлою, чаруя всё сказочным светом,
звёзды, как светлячки, замерцают средь хвои и листьев
в нашем парке, где мы так любили бродить прошлым летом.
Я люблю тебя так, как представить не мыслил в разлуке,
в Херсонес мы поедем, где жили античные греки,
перестала судьба отчебучивать разные трюки,
чай, не фокусник, право, и снова мы вместе навеки.
Я тебе покажу Балаклавскую славную бухту
с генуэзскою башней на фоне роскошных рассветов,
там живёт тётя Люба, она капитан, не «кондухтор»,
а ещё она пишет стихи, привечает поэтов.
Мы по Ялте пройдём, нас платан заприметит могучий,
мы знакомы давно, мы б его никогда не минули,
и пускай над Уч-Кошем слегка громыхает, и тучи
всё темней и темнее, гроза мимолётна в июле.
Я тебе покажу побережье до самой Алушты,
где от жареных мидий балдело бродячее племя,
не видала ты яблок таких и не кушала груш ты –
их к столу Императора Крым посылал в своё время.
Мы поедем по горной дороге в лесной заповедник.
К перевалам, яйле и каньонам относишься как ты?
Меж душою и Богом не нужен, поверь мне, посредник
в этом воздухе чистом, у них здесь прямые контакты.
Я тебе покажу.… Ну да ладно, всё знаешь сама ты:
фейерверки, музеи, вино, да и звёзды эстрады;
к нам судьба благосклонна, и так далеко до расплаты
(неизбежной разлуки!), что думать о ней и не надо…
ВЕЗУНЧИК
Удачлив и спесив,
нырял шикарно с буны;
и даже был красив
сей баловень Фортуны.
Он мачо, он кумир,
(о женщин визг и вопли!),
и даже был сортир
в его квартире тёплый.
Давалось всё шутя,
«жигуль» сменил на «виллис»;
он был ещё дитя,
а с ним уже носились.
И вот, поди ж ты, слёг
и умер перед маем,
и не дал горя Бог
хлебнуть, как мы хлебаем…
ТАЛАНТ МНЕ СВЫШЕ ДАН
А.Антонову – мастеру спорта
по подводной охоте.
Я море изнутри
познал, как те дельфины;
по счёту: раз, два, три –
нырял в его глубины.
Выныривал и вновь
нырял к подводным скалам:
вела меня любовь,
страсть мною помыкала.
На рыб охотясь, я
учил, до знаний падкий,
иного бытия
законы и порядки.
А добытый трофей
внушал подругам юным,
что ас я, корифей
и баловень фортуны.
Талант мне свыше дан,
(ну, что акуле – челюсть!),
когда плывёт лобан,
попасть в него, не целясь
Я выплывал на риф,
нырял я всё активней,
бывал и я «калиф
на час» среди актиний.
Носились луфари,
медуз мерцали спины,
я море изнутри
познал, как те дельфины.
ЗУБАРИ
Качается зыбкая муть
среди валунов Мухалатки;
кефаль мне легко обмануть,
я знаю её все повадки.
Губила её – и не раз! –
беспечность. Не хитры приёмы.
Азарт и, простите, экстаз
охотничий многим знакомы.
Ныряю, ныряю, ныря-
ю, подводные дыбятся глыбы:
сложнее добыть зубаря –
зело осторожная рыба.
А здесь они, право, – с луну,
жируют в колониях мидий;
сглотнул я, опешив, слюну,
когда первый раз их увидел.
Огромные! Рыбы – мечта!
И, скептики, не обессудьте,
ко мне наплывает чета
вот этаких монстров из мути.
Проходят – ну рядом, клянусь, <!-- -->

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.