 * * *
* * *Словно бонус, Пушкин среди пушек,
что, брат, как там ныне в тишине
вечности. В глазах, без сна опухших,
я всегда с тобой наедине,
на ноге короткой, да Арина,
да бутылка терпкого вина.
Жизнь идёт, течёт, как субмарина,
в сумерках едва касаясь дна.
Выпьем, брат, за наш язык Великий,
что теперь противен для европ.
С нами Бог и все святые лики,
против нас Мазепа, швед, укроп…
И звучит глагол твой незабвенный,
Отче наш печётся обо мне,
русский дух мятежный внутривенный,
и всё та же истина в вине.
* * *
Идиотизм с человеческим лицом
нажмёт на гашетку, летит скворцом
снаряд в три пуда за двадцать вёрст,
а я рифмую сюжеты в вёрд.
Оно как бахнет над головой
и дом подпрыгнет, и задрожит.
Я понимаю, что мозг живой,
но мне частично принадлежит.
Смотрю, Апостол, как по воде,
идёт по небу, и сеть в руках.
А в сетке души, но кое-где
журавль курлычет, и в облаках
разносит аист в кульках детей,
точней, в авоськах, авось, возьмут.
И чёрный ворон - отец смертей
на птицу Тройку надел хомут.
И ангел третий трубит в трубу,
или четвёртый, не разобрать.
И с веток Вето кладёт табу,
и умолкает чужая рать.

* * *
Дни лукавы, особенно вечера,
вечность откладывается на потом.
Овца из стада, потерянная вчера,
в одиночестве остаётся скотом,
пребывая в симптоме страха,
в котором зачата и рождена.
Телом изнашивается рубаха,
чем ближе к лесу, тем Отче наш
моим становится, как свидетель,
всей моей сущности, а врази
отступают, чувствуя добродетель
в крике: Господи, помози!
* * *
Лязгают ножницы циферблатных стрелок,
прерывая суровую жизни нить.
Заседают мухи на дне тарелок
последнего ужина у межи.
А жизнь продолжается, как таковая,
на всех континентах и даже на полюсах.
И льётся любовная песенка токовая
в девственных (без ухмылки) лесах.
Всё, как обычно, у подворотни
трутся любители поговорить,
потусоваться в круговороте.
Свеча, догорающая на треть,
чадит, потрескивая, мерцая,
словно мерцательная аритмия.
В патрульной машине у полицая
приёмник озвучивает: «Мамма мия».
* * *
Не мокрый «град» низвергнуто из хляби
небесной, покрывающей миры.
Умолк заикой соловей Алябьев
и наломало всякой мишуры
взрывной волной из штата Мичигана
или Миссури, что там есть ещё?
Всегда жилось мне плохо без нагана,
а ныне выражение у щёк
напоминает гипсовую маску
посмертную (пожизненно) пока
не пересадят память сердцу, мозгу
смотрящие беспечно облака.
* * *
Дни, как кнопки этажей,
только цифрами разнятся.
Утро, вечер на меже,
солнце встало, чтоб размяться,
село солнце, чтобы лечь.
Дни идут не различимы.
Голова роняет с плеч
мысли, следствия, причины.
Всё услышано до нас,
всё потеряно, разбито.
Тащит строчку на Парнас,
словно спутник на орбиту,
слововержец, как Сизиф,
а она устаревает.
Пешка топчется в Ферзи,
клетка, как передовая,
сердце бьётся в ней, как дятел,
в пятках мечется душа
от того, что век наш спятил
вечность подлостью кроша.

* * *
Я смотрю наверх сквозь тучи
и оттуда смотрит Бог –
в каждое мгновенье точен.
Препинаясь, жизни бег
умолим, но безвозвратен.
Облачный клубится пар.
С чем приходим, всё растратим
и до не которых пор
мне ещё дано вглядеться
в глубину и в синеву
неба, вспоминая детство
из которого живу.
* * *
Веры моей господствующая высота
не даёт свихнуться в миру с врагами.
Под обложкой ягодные места
на любой странице меж берегами
позапрошлых книжек былых времён,
пожелтели загнутые страницы
самых сладких сердцу вершин, имён.
Корешки изданий, как вереницы,
безупречных знаний, живых корней,
и они бессмертны, неприхотливы.
Потому живётся мне искренней,
от того смиренный я и счастливый.
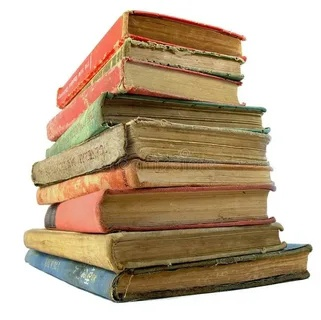

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.