
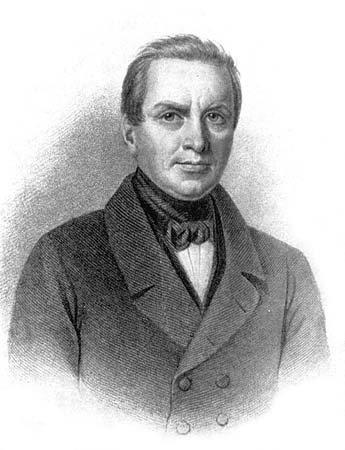
Иван Петрович Мятлев родился в Петербурге в старинной и богатой дворянской семье. С пяти лет он числился в Коллегии иностранных дел. В 1813 и 1814 годах воевал против Наполеона в звании корнета Белорусского гусарского полка, участвовал в заграничных походах, затем уволился из армии и обосновался в своем прекрасном петербургском доме, среди роскоши и знаменитых произведений искусства. В 1821 году он решил поступить на службу в канцелярию министра финансов по департаменту мануфактур и внутренней торговли. Дела не обременяли Мятлева, чины и звания шли исправно, и спустя несколько лет он уже стал действительным статским советником и камергером. В 1836 году он оставил службу, отправился в заграничное путешествие, посетил Германию, Швейцарию, Италию, Францию. Вернувшись в Петербург, открыл в своем доме-музее музыкальные вечера, куда приглашались все приезжие и отечественные знаменитости.
В атмосфере непринужденного дружеского общения, салонных разговоров, коротких необременительных отношений зарождается веселая, ироничная поэзия Мятлева, оттачивается его импровизационный талант. Литературная игра, фарс, розыгрыши, неожиданные рифмы, меткие остроты, пародии - все это составило основу своеобразной стиховой устной и письменной культуры, далекой от профессионализма, но живой и непосредственной.
Стихи Мятлев начал сочинять рано и мастерски читал их повсюду. В 1834 и 1835 годах вышли два его сборника, включившие по 14 стихотворений и сопровождавшиеся надписью: "Уговорили выпустить".
Широкую известность принесли Мятлеву комические и шутливые стихотворения начала 1840-х годов.
Потешая светскую публику макароническими стихами, поэт исподволь приготавливал ее к восприятию самого главного своего произведения, вышедшего в 1840-1844 годах,- "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею - дан л'этранже". В нем Мятлев создал комический, не лишенный сатиры и гротеска образ тамбовской помещицы, путешествующей по Германии, Швейцарии, Италии. Курдюкова и объект сатиры, и литературная маска. Она - олицетворение не только провинциальной русской действительности, но и мира европейских обывателей. Наглая самоуверенность Курдюковой, ее претензии на окончательность и непререкаемость в суждениях как нельзя лучше выразились в языке и стихе. Куплетные формы с их легкими ритмами создавали впечатление необыкновенной бойкости и даже развязности, свойственной Курдюковой, а ее речь, составленная коварным автором из разноязычных слов и оборотов, разоблачала сомнительную образованность недалекой барыни, которой не помогали никакие иностранные слова для выражения сбивчивых мыслей.
Сатирические мотивы не исчезают из поэзии Мятлева и в дальнейшем. В стихотворении "Разговор барина с Афонькой" (1844) Мятлев нашел выразительный способ передать беседу барина с крепостным, изобразив обоих персонажами народного кукольного театра. В этой драматической сценке, заслужившей похвалу критики, диалог между барином-несмышленышем и слугой, который прикинулся дурачком, простофилей, обнаруживает полную несостоятельность господина: он ничего не смыслит в сельской работе, он уже разорился, но все еще напускает на себя важный вид и продолжает куражиться. В сатире "Сельское хозяйство" (1844) барыня и мужики вместе со "старостой-пузаном" никак не могут найти общий язык. Метафорический план Мятлев переводит в буквальный - барыня говорит по-французски, а мужики изъясняются по-русски с густой примесью простонародных речений, что сообщает стихотворению дополнительный комический эффект.
Введение французской речи в русскую, неподготовленный переход с одного языка на другой, их нелепое смешение являют здесь, как и в других макаронических стихотворениях, художественно рассчитанные функции: с их помощью создается убедительная картина полной оторванности господского сословия от народа, оно чувствует, думает и говорит на чуждом народу языке.
Современники ценили и любили веселую и задорную поэзию Мятлева. Его "Сенсации и замечания госпожи Курдюковой" оставили заметный след в стихотворной юмористике, предварив появление сатирических и комических литературных масок от Козьмы Пруткова до персонажей поэтов "Искры". При жизни Мятлева "Сенсации" выходили трижды. Последний раз - в год смерти поэта, неожиданно скончавшегося в Петербурге среди масленичных развлечений.
РОЗЫ
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.
Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты,
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы.
И мне в венке цветы еще казались
На радостном челе красивее, свежей,
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей!
И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, средь плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг ее вились и радость и любовь.
В ее очах - веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне - роз моих завянувший венок.
СОЛОВЕЙ
Сладкозвучный соловей!
Говори душе моей;
Пой мне песнь бывалых дней,
Сладкозвучный соловей.
Как я любовался ей,
Без заботы, без затей,
В светлой юности моей,
Сладкозвучный соловей.
Верил я словам друзей,
Верил доброте людей,
Песне радуясь твоей,
Сладкозвучный соловей.
Песнь твоя в тиши ночей
Нынче стала мне грустней;
Спой мне песнь бывалых дней,
Сладкозвучный соловей.
ПРИДИ, ПРИДИ
Весенняя песнь соловья
«Приди, приди!» — Куда зовешь
Ты, соловей, меня с собою?
О чем неведомом поешь,
О чем беседуешь с душою?
«Приди, приди!» — Ужели ты
В краю, куда мои просились
Всегда заветные мечты
И все желания стремились?
«Приди, приди!» — Но досказать
Не можешь ты всего, что знаешь,
Велишь ты сердцу уповать,
Зовешь с собой и умоляешь.
«Приди, приди!» — Но я без крыл,
Не улететь мне за тобою;
Тоску ты только заронил
Мне в сердце песней неземною.
ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА
Вот падучая звезда
Покатилась, но куда?
И зачем ее паденье,
И какое назначенье
Ей от промысла дано?
Может быть, ей суждено,
Как глагол с другого света,
Душу посетить поэта,
И хотя на время в ней
Разогнать туман страстей,
Небо указать святое,
И всё тленное, земное
Освятить, очаровать.
Иль, быть может, благодать,
Утешенье, упованье
В ней нисходит на страданье,
Как роса на цвет полей
После зноя летних дней,
Жизнь и радость возвращая.
Может быть, любовь святая
В сердце юное летит
И впервые озарит
Всё заветное, родное,
И блаженство неземное
В это сердце принесет.
Может быть, она ответ
На молитву и на слезы,
И несет былого грезы
В дар тому, кто и любил,
И страдал, и пережил
Всё, чем жизнь его пленяла,
А теперь тоска застлала
Этот светлый небосклон.
Может быть, она поклон
Друга, взятого могилой,
И привет его унылый
Тем, кого он здесь любил,
О которых сохранил
Память в жизни бесконечной,
Как залог союза вечный
Неба с грустию земной.
Может быть, она с слезой
Ангела несет прощенье,
Омывает прегрешенья
И спокойствие дарит.
Может быть, она летит
С новой, детскою душою,
И обрадует собою
В свете молодую мать.
Может быть, но как узнать?
Как постичь определенья
Их небесного паденья?
Не без цели их полет:
Человека бережет
Беспрестанно провиденье,
И есть тайное значенье
В упадающих звездах —
Но нам только в небесах
Эта тайна объяснится.
А теперь, когда катится,
Когда падает звезда,
Мы задумаем всегда
Три желанья, три моленья,
Ожидаем исполненья,
И ему не миновать,
Если только досказать
Всё, покуда не умчится,
Не погаснет, не затмится,
Не исчезнет навсегда
Та падучая звезда,
По которой загадали,
Помолились, пожелали.
ФОНАРИКИ
Фонарики-сударики,
Скажите-ка вы мне,
Что видели, что слышали
В ночной вы тишине?
Так чинно вы расставлены
По улицам у нас.
Ночные караульщики,
Ваш верен зоркий глаз!
Вы видели ль, приметили ль,
Как девушка одна,
На цыпочках тихохонько
И робости полна,
Близ стенки пробирается,
Чтоб друга увидать
И шепотом, украдкою
"Люблю" ему сказать?
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Вы видели ль, как юноша
Нетерпеливо ждет,
Как сердцем, взором, мыслию
Красавицу зовет?..
И вот они встречаются,-
И радость, и любовь;
И вот они назначили
Свиданье завтра вновь.
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Вы видели ль несчастную,
Убитую тоской,
Как будто тень бродящую,
Как призрак гробовой,
Ту женщину безумную,-
Заплаканы глаза;
Ее все жизни радости
Разрушила гроза.
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Вы видели ль преступника,
Как, в горести немой,
От совести убежища
Он ищет в час ночной?
Вы видели ль веселого
Гуляку, в сюртуке
Оборванном, запачканном,
С бутылкою в руке?
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Вы видели ль сиротушку,
Прижавшись в уголок,
Как просит у прохожего,
Чтоб бедной ей помог;
Как горемычной холодно,
Как страшно в темноте,
Ужель никто не сжалится -
И гибнуть сироте!
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Вы видели ль мечтателя,
Поэта, в час ночной?
За рифмой своенравною
Гоняясь как шальной,
Он хочет муку тайную
И неба благодать
Толпе, ему внимающей,
Звучнее передать.
Фонарики-сударики
Горят себе, горят,
А видели ль, не видели ль -
Того не говорят.
Быть может, не приметили...
Да им и дела нет;
Гореть им только ведено,
Покуда будет свет.
Окутанный рогожею
Фонарщик их зажег;
Но чувства прозорливости
Им передать не мог!..
Фонарики-сударики -
Народ всё деловой:
Чиновники, сановники -
Всё люди с головой!
Они на то поставлены,
Чтоб видел их народ.
Чтоб величались, славились,
Но только без хлопот.
Им, дескать, не приказано
Вокруг себя смотреть,
Одна у них обязанность:
Стоять тут и гореть,
Да и гореть, покудова
Кто не задует их.
Так что же и тревожиться
О горестях людских!
Фонарики-сударики -
Народ всё деловой:
Чиновники, сановники -
Всё люди с головой!
http://www.litera.ru/stixiya/authors/myatlev.html

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.