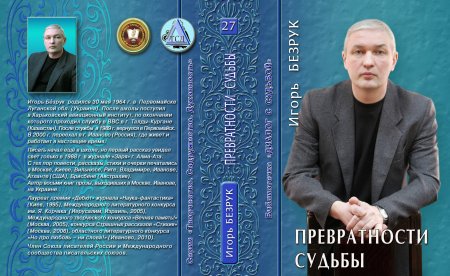
Все, кто знал, называли его графоманом и неудачником. Со стороны, он издал всего одну книгу в столичном издательстве, за которую (как-то проскочил) получил достойный для своего времени (и по сравнению с его тогдашней зарплатой) гонорар. Все остальные – тонкие и чуть потолще, в твердых и мягких переплетах, с промежутками от трех до пяти лет он периодически издавал за собственные средства. Копил деньги с мизерного заработка и редких копеечных калымов и издавал, так как спонсоры не находились, а крупным издательствам, делающим ставку лишь на коммерческие проекты (им что картошку, что книги продавай, – главное продать!), он был попросту неинтересен. Но он не отчаивался и продолжал писать, потому что сочинительство давно стало его насущной досуговой потребностью, такой же, как вода и пища, о которых задумываешься только тогда, когда у тебя сосет под ложечкой.
К шестидесяти с гаком лет в его писательском «портфеле» накопилось свыше трех сотен рассказов и очерков, два десятка повестей и даже один роман, если судить по объему получившихся страниц, которые он с дотошностью вносил в отдельный файл «Произведения ФСБ», где акроним ФСБ не имел, как оказывается, никакого отношения к нашей одноименной государственной структуре (сами знаете, какой).
Заглавные ФСБ, к разочарованию конспирологов, означали просто-напросто аббревиатуру его ФИО: Филимонов Сергей Борисович; так что, сами видите, и фамилия у автора была никакая не экзотическая, и имя самое обыкновенное, неброское, довольно у нас распространенное, – прочтешь и забудешь.
Так вот, проведя доскональную опись своих произведений, он нашел, что было бы неплохо тщательно подсчитать и количество действующих лиц в них, ведь иногда, даже в его самом небольшом, малостраничном, тексте, проявлялось с десяток особей разного пола, разных национальностей и характеров, включая проходных (вспомнишь тут Николая Васильевича, свет, Гоголя с его походя появившимися, но в дальнейшем исчезнувшими фигурами).
Не забудем, само собой разумеется, и про животных и растений, страны и континенты, описания природы и климата, – их то же надо как-то назвать и куда-то определить, когда фоном, а когда и действующим лицом, – не без этого.
Принявшись за подобную работу, Сергей Борисович вскоре так увлекся, что, как ни странно, позабыл даже про цель своего писательства в целом и про предполагаемого читателя в частности, не говоря уже про родных и близких, которые, впрочем, на все его подобные «бзики» и «закидоны» давно закрыли глаза, как на занятия бестолковые и малополезные, необходимые исключительно самому Сергею Борисовичу для успокоения собственной истрепанной души. Но был в этой нелепости и плюс. Мужики ведь в основной своей массе натуры довольно скрытные (впрочем, как и большинство женщин): одни целые вечера коротают в барах и пабах, другие в гараже, третьи на охоте или рыбалке; некоторые – насколько хватает времени и здоровья – ухлестывают за юбками, этот хоть дома сидит и из своей каморки почти не высовывается (ну, разве что метнуть походя чего-нибудь в желудок, небольшой гимнастикой размять засиженные члены или совершить живительный, так сказать, моцион в прилегающем к дому лесном массиве). Старикам тоже, как и малышне, подай игрушки! Семейная проблема была закрыта. Всем стало спокойно, включая самого Сергея Борисовича, – в коем-то веке от него отстали.
«Да если б не писал, – в сердцах восклицал Сергей Борисович, – я, может быть, значки собирал или спичечные коробки, или пивные банки; филателистом бы заделался в конце концов, – кто б запретил?»
Итак, перво-наперво Сергей Борисович составил от «А» до «Я» поименный каталог всех героев своих произведений, включая самых проходных (как же о них забыть!). В таблицу против каждого имени внес известные как по произведениям, так и сугубо самому Сергею Борисовичу биографические данные персонажей с момента их рождения до последнего появления в тексте или смерти, если таковая случалась (увы, батенька, жизнь…).
Люди сведущие понимают, что любому читателю достается от биографии персонажа самая малая толика; большинство времени существования героя автором просто не описывается, но, поверьте, автор знает биографию своего подопечного как минимум до седьмого колена, а подноготную – до самой тончайшей струнки вымышленной души, так как описывает его сформировавшегося, цельного, материализовшегося, обретшего, как говорится, кровь и плоть, со всеми его причудами и разнообразием.
С дотошностью антрополога и пытливостью биографа и в это дело Сергей Борисович занурился, что называется, «с головой», полностью, как это ни странно, отойдя от сочинительства (что ему теперь сочинять?). Зато какое поле деятельности сразу открылось!
Не секрет, что, создавая произведение, автор в течение долгого пути работы над ним заводит дружбу с одними своими вымышленными героями, влюбляется в других, ненавидит третьих, без которых мир тоже был бы неполным. Некоторые – он замечал – проявляются в нескольких историях, но под другими именами, хотя это были те же самые личности, под какими бы масками они не скрывались. Сергей Борисович вычислял их подсознательно, каким-то шестым чувством.
Тот же Бальзак не просто так переносил из одного произведения в другое одни и те же физиономии, ведь они день-деньской попадались ему на глаза на улицах и в переулках, по которым он бродил, в кафешках, где ему случалось обедать или общаться с друзьями, в борделях, без которых нормальному холостяку никак было не обойтись (не все пассии, к сожалению, снисходят даже к гению).
Составление биографий своих персонажей (в том числе не ставших главными героями) настолько увлекло Сергея Борисовича, что, бывало, даже за обеденным столом, мимоходом отправляя ложку супа в рот и задумчиво глядя в окно, он неожиданно произносил: «А ведь в свое время Савелий не закончил даже начальной школы», или: «На Маняше на том знаменательном вечере было синее, в белую крапинку, шелковое платье», или: «У Телешова в кармане всегда находился нож, придававший ему храбрости, а в отдельных случаях – дерзости».
– Что? – спрашивала поначалу жена.
– Да нет, ничего, это я так, про своё, – отвечал Сергей Борисович, и жена понимала, что лучше мужа сейчас не трогать: он пребывает где-то в своих, недоступных обычным смертным, эмпиреях.
Сергею Борисовичу нравилось составление биографий своих героев и особенностей их характера еще и потому, что он, как всякий нормальный исследователь, вникал не только в природную суть личности героя, но и в обстановку, эпоху, время, в которое тот обитал. Вникал единственно ради достоверности образа. Ведь не мог, скажем, какой-нибудь идальго в чулках и панталонах, с тонкой шпагой на боку, думать точно так же, как нэпман в твидовом костюме и с золотыми часами на брюхе, а европеец поступать, как азиат (хотя многое перемешалось в нынешнем мире: оливье и окрошку полюбили миллионы, а последователи Мухаммеда или приверженцы кашрута, чего врать – свят-свят-свят, – иногда не брезгуют и свининой).
Описывая жизнь каждого своего героя, Сергей Борисович, как актер в театре, полностью перевоплощался в него: обожал блюда, которые тот любил, книги, которые читал, примерял на себя (мысленно) те же наряды, в которых красовался его персонаж.
С легкомыслием влюбленного юноши, он взбирался по хлипкой ветке дерева в спальню второго этажа к даме сердца; с беспечностью, в окружении хищников, крался во влажных джунглях в поисках затерянных городов; гордо пытался выпрямить плечи у расстрельной стены, вдыхал витавшие вокруг героя ароматы, ощущал вкус еды, которую тот употреблял, сглатывал слюну, когда герой перекатывал во рту, перед тем, как проглотить, сочное Мерло или душистое Пино нуар; чесался, если у героя зудело в каких-либо местах.
Не как демиург, а скорее как небезучастный родитель, Сергей Борисович пристально следил за перипетиями судьбы каждого своего персонажа, иногда направляя его, иногда наблюдая за ним со стороны, ведь всякому пишущему не секрет, что частенько созданные им герои выходят из-под контроля и начинают жить собственной жизнью даже в незаконченном тексте; что называется, уводят перо в сторону. Таких строптивых Сергей Борисович не очень жаловал, – сладить с ними обычно не было ни сил, ни возможностей, какое бы количество раз ты не переделывал рукопись, – знакомая практика для каждого автора. Мистика!
Ладно, когда в конце концов ты поставил точку и тем самым запротоколировал окончание произведения. Тут, бесспорно, герой тебе уже не принадлежит, пускается, туго натянув паруса, в самостоятельное плавание, длительность которого в дальнейшем напрямую зависит от читателя. Но бунтовать в незавершенном тексте, а еще хлеще, на стадии его задумки, согласитесь, – это просто верх наглости!
Но – оставим этот вопрос: его несчетное количество раз и до Филимонова дотошно разбирали авторы даже мировых бестселлеров, на этом противостоянии ушлые особы спекулировали, об этом противостоянии снимались художественные и мультипликационные фильмы, телесериалы, манги и аниме, сочинялись рассказы, повести и романы, ставились пьесы, создавались видеоигры и даже писались песни.
Филимонов по своей натуре был человек мягкий, сговорчивый, поэтому в таком случае зачастую уступал бунтарю: «Не хочешь – как хочешь! Потом не проси, чтобы я показал тебе прямую дорогу в рай (считай, к концу повествования). Ищи ее сам!»
Да, забыл упомянуть о распространенных случаях, когда автор в прототипы своих героев выбирает хорошо знакомых ему людей, не брезгуя ни близкими приятелями, ни приятельницами. Тут уж дело и до криминала доходит. Суды, разборки, прекращения дружбы и иже с ними.
Могут – не без этого – «случайно», в укромном месте, и по голове шибануть. А особо разъяренная особа, которую такой автор, любуясь, вывел, с ее точки зрения, неподобающе (ха-ха-ха!), даже в присутствии дражайшего супруга (не смотри, что разница в весе) может остро отточенными коготками всю физиономию такому горе-писаке измочалить.
Но – не будем о плохом. Вернемся к Филимонову.
Во время болезни или недомогания, Филимонов спрашивал себя: а как бы поступил какой-нибудь из его героев в таком случае: опустил бы безвольно руки или, превозмогая боль и страдания, поднялся с постели и, несмотря на жар и слабость в ногах, продолжил дальше свой фундаментальный труд?
Что говорить: с одной стороны, до мелочей разбирая поступки, размышляя о жизни и существовании своего героя, что называется, выписывая его, Филимонов всю душу себе измотает, а с другой – найдет в них что-то такое, что начинает подпитывать его самого, насыщая, преобразовывая, делая более цельным, возвышая в собственных глазах.
Чуть не забыл про скуку, которая, наряду с депрессией, давно стала немаловажной проблемой нашего века. Филимонов ее просто не знал, – он никогда не скучал, некогда было скучать. Он даже удивлялся, когда кто-нибудь из его знакомых признавался, что частенько изнывает от скуки. Как можно! Вокруг столько интересного, неизведанного, любопытного, – успей только все познать и увидеть, пощупать и попробовать на вкус. Целый мир у твоих ног! Только не ленись, не давай душе остыть, разочароваться в окружающем и окружающих тебя людях. Уж каковы ни были его персонажи – преображенные копии подлинных людей, аватары, – и то они никогда не скучали, а если и впадали в депрессию, всеми силами старались выбраться из нее, преодолеть соответственно выработанному характеру самого Филимонова, его сложившимся взглядам и установкам: несмотря ни на что, вопреки всему!
Неудивительно, что и в последние свои минуты, ослабленный, ничего не говорящий больше Филимонов позади собравшихся возле его предсмертного одра родных увидел и опечаленные лица всех своих персонажей из большой неопубликованной книги «Произведения ФСБ». Никто не остался в стороне, все, кого он хотел увидеть, пришли проводить его в последний путь.
Филимонов облегченно вздохнул, да так и умер со счастливой улыбкой на устах.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.