Александр МЕЛИХОВ
Мой отец и моя мать были учителями в шахтерском поселке в Северном Казахстане. Жили вшестером в тесной развалюхе среди гор щебенки, а вокруг необозримым пространством расстилалась каменистая степь. Глядя из столиц - дыра из дыр. И родители, когда-то закончившие столичные вузы, казалось бы, могли чувствовать себя неудачниками, но они были по-моему абсолютно счастливы, насколько это доступно смертным. Они были теми самыми народными аристократами, которых выдвигает и на которых держится любой народ. Рядовые люди живут как все: все делают бочки – и они делают бочки, все пашут – и они пашут. А есть люди, которых тянет к чему-то высокому. В одну эпоху это может быть религия, в другую – наука, в третью – война. Когда народом овладевает какая-то греза, то до глубины она захватывает лишь какой-то скромный процент населения. Их можно называть романтиками или аристократами духа, или чудаками, но они и есть бродило исторического творчества.
Мама моя происходила из самой простой деревенской семьи. Отец был кузнецом, все девять сестер-братьев остались без серьезного образования, а вот одна девочка почему-то хорошо училась, читала книжки и отправилась поступать в Москву в педагогический институт (ныне МПГУ). Почему в педагогический? Просто выше учителя она ничего не знала. Почему на физику? Случайно. Могла бы и на географию, у нее по всем предметам были пятерки. Просто ей хотелось из будничного мирка выбраться на просторы большого мира, где творится история. По этой же причине она сделалась ворошиловским стрелком, прыгала с парашютом – все как было положено в конце тридцатых. Ее вполне могли бы, как Зою Космодемьянскую, забросить в тыл, где бы ее скорее всего ожидал героический конец. Но по воле случая после выдачи диплома ее отправили на родину в Казахстан. И она оказалась в том самом поселке, где я вырос.
А отец мой родился в еврейском местечке. И в ту пору, до революции, был очень религиозен, то есть тоже читал те книги, какие были. Мама читала советские книги, а он - религиозные. А пришла советская власть – и он пошел на рабфак, увлекся мировой революцией, собирался рвануть на Польшу, на Германию. Слава Богу, этого не случилось, посадили его за троцкизм, отсидел он пять лет на Воркуте, а потом выслали его туда же, на мою будущую родину как неблагонадежный элемент. И там он встретился с моей мамой. Так что советской власти я обязан жизнью.
Со стороны может показаться, что для моих родителей это было страшной жизненной неудачей, крахом всех надежд – после Москвы, после Киева оказаться в таком захолустье. А они, повторяю, были абсолютно счастливы. Стали они любимцами не только детей, но и всего поселка. Родители учеников к ним ходили за советом как к мудрецам. И мне сейчас кажется, что несчастливый человек не может быть педагогом.
Хорошим педагогом.
Подозреваю, что это самый важный секрет педагогики. Здесь бы я дополнил самого Макаренко, чей блиц-портрет я попробую сейчас набросать.
Будущий знаменитый педагог и очень сильный человек родился недоношенным весной 1888 года на маленькой железнодорожной станции в Харьковской губернии в семье рабочего-маляра вагонных мастерских. Даже в зрелые годы легко простужался от малейшего сквозняка. Да и прожил совсем недолго.
К домашним делам не проявлял интереса, жил в книгах, которые покупал даже в долг. Что очень огорчало трудягу-отца: «Семья для него не существует, он приходит сюда, как в гостиницу, — переменить бельё, пообедать и поспать. Всё остальное его не интересует. Аристократ какой-то».
Для отца слово «аристократ» означало никчемного белоручку, — он, видимо, не знал, что аристократическая молодежь на войне не боялась ни крови, ни грязи, когда на кону стояла ее честь. Макаренко тоже показал себя не просто героем, но и выдающимся хозяйственным организатором, когда после страшного разорения Гражданской войны перед ним встала труднейшая задача — вернуть к человеческой жизни вчерашних полууголовников и настоящих уголовников.
Достижения его метода и его личности всемирно признаны, о нем пишут книги и диссертации, а такая авторитетная организация, как ЮНЕСКО, в 1988 году включила Макаренко в четверку педагогов, определивших педагогическое мышление XX века вместе с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори. Метод Макаренко иногда понимают как простое «трудовое воспитание», но он не раз подчеркивал, что воспитывает не труд, а коллектив, захваченный понятным ему и важным для него общим делом.
Если нет общего дела, не поможет и демократия — она только позволяет растащить коллектив на ненавидящие друг друга группы интересов. Макаренко всегда находил для своего коллектива важные дела, потому у него прекрасно работала и система самоуправления с постоянной ротацией командного состава.
Такая независимость и свобода казались подозрительными бдительным идеологам — от ареста Макаренко, как ни парадоксально, спасло только покровительство наркома НКВД Украины В. А. Балицкого.
А что такое, по Макаренко, обаяние воспитателя? Вы можете быть с воспитанниками сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они на вашей стороне. И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, но если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, то никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения.
Знать свое дело - это, разумеется, педагогический минимум. Одного нашего учителя истории спросили: «Египет в Африке?», - а он ответил: «Египет был Египет, есть Египет и будет Египет». После такого конфуза самая обаятельная манера вести себя будет вызывать только насмешки. И все-таки мне кажется, что если ты сам несчастлив, то, что бы ты ни преподавал и как бы хорошо их ни знал – физику или историю, — ты будешь их только дискредитировать. По крайней мере, в глазах нормальных, не исключительно мотивированных детей. Дети же видят твое выражение лица, и если ты с кислым видом говоришь о физике, то они понимают, что физика – это дрянь, если она не принесла тебе счастья. А если ты выглядишь счастливым, то, все, что ты преподаешь, – это прекрасно, раз оно тебя сделало таким сильным и обаятельным.
Та же моя мама вовсе не была рождена для физики – это было, повторяю, делом случая. Но ей ужасно нравилось нести науку в массы, отбирать одаренных ребят. Она видела свой успех не в личных достижениях, а в том, что ее выпускники поступают в столичные институты, становятся инженерами, учеными.
Талантливых или, по крайней мере, романтичных детей не так уж мало - достаточно открыть форточку в большой мир, и они сразу туда устремятся: их тянет к чему-то высокому, к большой жизни. И ученики видели в моих родителях не только преподавателей, но еще и представителей какого-то большого мира, гораздо более интересного, масштабного, значительного. Мои родители были представителями великого в обыденном. В этом и заключалась их гордость. И дома всегда царило веселье, хотя провисающий потолок приходилось подпирать отцовскими книжными полками, а дед, токарь на мехзаводе, постоянно забивал ватными штанами дыры между прогнившими бревнами, — на шахте выдавали бесплатно старые ватные штаны, их всегда было в достатке.
При этом под нашей провисающей кровлей я никогда не слышал слов: деньги, зарплата, достал, повысили, понизили…
И в доме всегда было весело. Это и требуется для воспитателя – надо быть веселым и счастливым человеком. Другого способа нет.
Если ты счастлив, обаятельным становится всё, что ты проповедуешь, а если несчастлив, то все твои проповеди будут вызвать недоверие. Люди любят счастливых, а дети особенно.
История человечества это в огромной степени история зарождения, борьбы и упадка коллективных грез. Возникает греза – возникает исторический рывок. Угасает греза, угасает и рывок: растут самоубийства, растет алкоголизм, растет количество несчастных людей. А несчастные люди опасны для окружающих – они завидуют всем, кто весел и счастлив. И большое количество несчастных людей опасно для общества, они найдут способ, как отравить жизнь остальным через склоки или через смуты.
А когда они становятся педагогами, они постараются внушить, что и жизнь, и учеба - это зеленая тоска.
В нашей школе имени Сталина таких было мало, но некоторые все-таки были склонны побрюзжать, и нас это отталкивало от их предметов. «Как сидите?», «Ну-ка, встаньте!»… И мысль у нас одна: исчезни. Ни математики, ни химии твоей не надо, только исчезни поскорее.
И дети, и взрослые любят радоваться. А если человек вызывает напряжение и страх, то ничего от него не надо. На работе, если он наш начальник, мы еще готовы потерпеть, но бесплатно мы терпеть не станем.
Но что еще воспитывает поверх всех школ и учителей – коллективная мечта. Я входил в жизнь в шестидесятые годы, когда возникла новая грёза, новая сказка. Конечно, в научном мире она всегда существовала, но тогда она дошла и до таких обормотов, как я. До этого я думал, что лучшие люди это моряки, летчики и гопники, а оказалось, что лучшие люди – это физики. Они не просто самые умные, но они еще и самые храбрые, самые остроумные. И главным моим воспитателем сделался роман «Иду на грозу» Даниила Гранина. Там физики демонстрировали все классические мужские доблести – прыгали с парашютом, покоряли красавиц, боролись за правду, летали куда-то в небеса, рисковали жизнью…
Это меня и покорило. Я понял, что живу в какой-то серой низине, а где-то на горе есть дворец, и там живут небожители – физики и математики. Только с этой минуты я и начал заниматься точными науками — потому что мне захотелось во дворец. Только тогда все формулы и задачи наполнились поэзией, а прежде это была неизбежная скука. Так что в отрочестве меня воспитывала всенародная мечта.
Грезу такого масштаба создать один человек не может, ее должно создать искусство. Берешь, скажем, журнал «Огонек», а там фото: «Академик Колмогоров на лыжной прогулке». И сразу понятно, что это, стало быть, выдающийся человек. До этого я видел только, как Ленин и Сталин прогуливаются, как сталевары и хлеборобы что-то плавят и жнут, а тут вдруг - там академик Колмогоров, сям академик Ландау, - ученые пошли косяком. В кино пойдешь – где-то запустили синхрофазотрон, в «Девяти днях одного года» разыскивают неисчерпаемый источник энергии… Казалось бы, что такое энергия? Ну, будем платить за свет в три раза меньше. Но не настолько же я много плачу за электричество, чтобы меня захватила эта мечта. А тут мне говорят, что энергия – это коммунизм, ни больше и ни меньше. Наука всегда делает рывки, когда она слишком много о себе воображает, будто она не просто открывает какие-то технологии, и полезные, и вредные одновременно, а прямо ведет в рай, хотя бы для избранных. Гимн матмеха, где я учился, начинался словами «Мы соль земли, мы украшенье мира, мы полубоги – это постулат!». Это чувство у меня и было, оно еще в школе зародилось. Тогда только я и рванул, стал чемпионом области по физике и математике, призером Всесибирской олимпиады по физике. Это с точки зрения вечности мелочь, но для провинциальной школы — вполне неплохо. Но я понимал, что это только начало, дальше будет вообще сказка.
Когда я попал на матмех, то пять лет любовался вывеской «Математико-механический факультет» — и от счастья замирал.
Так кто же меня в ту пору воспитывал? Вывеска. И то, что у нее был отколот угол и за пять лет ее так и не починили, — в этом был особый шарм. У джигита бешмет рваный, а оружие в серебре. Мы не занимаемся всякой ерундой, мы выше этого.
И преподаватели наши были небожителями. Какой-нибудь доцент в пятьдесят лет, далеко не академик, - он тоже был уверен, что принадлежит к высшей аристократии. В коридоре они спорили так же увлеченно, как первокурсники.
Вспоминается алгебраист, членкор — Дмитрий Константинович Фадеев, отец тоже очень крупного математика Людвига Фадеева, — так он был вовсе нездешний: длинные седые волосы, всегда обсыпан мелом, выговаривает не все согласные… Это было особенно упоительно: гений и должен быть таким! Он и воспитывал тем, что витал в облаках, презирая все земное
Разговоров о карьере не допускалось. Если кто-то вдруг в обком пошел работать, то ничего, кроме насмешки, это не вызывало. К торговым работникам и партийным чинам относились с презрением.
Не было и слова «престиж», просто все знали, что есть в этом мире главная сияющая вершина, и стремились на нее забраться. А если кто-то не видит такой вершины, где живут полубоги, то его и нечем воспитывать, нечем соблазнить.
Ведь воспитание – это соблазнение. Каждому хочется быть красивым, любимым, сильным. И только когда это не получается, люди начинают искать суррогаты в виде денег, в виде чинов...
Преподавать, воспитывать должны люди красивые, обаятельные, любимцы противоположного пола, которым есть чем соблазнять. А если пытаться соблазнить тем, что когда, мол, закончите обучение, то будете получать хорошую зарплату, то этим не соблазнишь, потому что к деньгам есть более простые пути. Опыт всех миллионеров доказывает это.
Преподавание – это не просто передача знаний, это еще и уроки счастья, заражение чувствами, как выражался Лев Толстой. Заражение мечтой.
Наличие коллективной мечты значительно облегчает задачу педагога, а ее отсутствие значительно увеличивает его ответственность.
Здесь самое время вспомнить о педагогических взглядах самого Толстого, которые он проповедовал в пору своего увлечения яснополянской школой.
Классик твердил, что крестьянских детей нужно учить тому, что им будет необходимо в их повседневной жизни, невольно сближаясь с отрицаемым им Марксом, тоже проповедовавшим, что человеческой душе диктует хозяйственная деятельность. Но мои родители бессознательно ставили перед собой обратную задачу – увести своих учеников из тесноты повседневности на простор исторического творчества. Аристократы духа стремились готовить себе подобных.
И это было правильно.


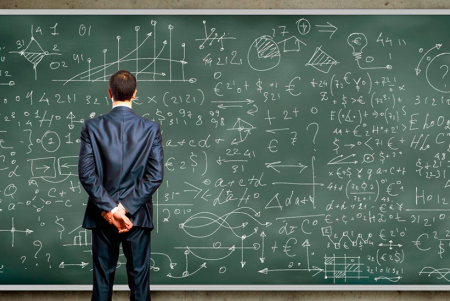
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.