
9 мая
2001 год, 9 мая. По телевизору читаются строчки из стихотворения Константина Симонова «Жди меня».
— Вот и отец твой, — глядя на цветной экран, говорит мне мать, — когда уходил на войну, также сказал. Уверенно как-то сказал! Мы в логу прощались, расцеловались, конечно. Он говорит: «Надя! Жди. Я вернусь. Обязательно вернусь. Жди!» И вернулся.
А я подсластил ей воспоминание об отце, уже покинувшем этот мир, выразительно заметив:
— Вот молодец: все сделал, как настоящий мужчина – пообещал и, дойдя до Берлина, вернулся!
РОДЫ
Братан мой, Николай Филиппович Самусенко, появился на свет как раз в самый разгар войны: немцы уже по двум дорогам шли через поселок — галдят, хохочут, в окна стучат, заглядывают, — а бабушка наша Марья Демидовна закрылась в избе с невесткой Анютой и рожают.
ОГОНЬ, ПЛИ
Мой директор общеобразовательной школы, где я учился в юные годы свои, воевал под водительством Рокоссовского, командовал ротой, в состав которой входили в основном бывшие зэки – заключённые советских тюрем и лагерей.
- Такие отчаянные ребята были! – С восторгом говорил о них мой директор-фронтовик, боевой офицер Красной армии. – Накануне накормили нас гороховым супом. Идёт артподготовка, пули свистят, снаряды рвутся. А тут двое бывших зэков (когда голову высунуть из траншеи нельзя) взлезли на бруствер. Один, встав задницей в сторону Варшавы (её-то и готовились брать как раз), спустил штаны, оголился. А другой со спичками, стоя во весь рост рядом, скомандовал: «По вражеским батареям – огонь, пли!» И чиркнул спичкой. А я ж не знал, что этот газ горит… Такое пламя выскочило оттуда, что я тебе дам!..
СТРАНИЧКА ВОЙНЫ
Несколько раз поднимались в атаку и захлёбывались – немцы опрокидывали атакующих. В очередной раз вернулись назад в окопы, один из бойцов говорит: «Нечипоренко! Смотри – у тебя шапка прострелена!» И действительно – в лобной части шапки была дырка от пули, ещё даже дымилась.
Тут раздалась команда опять атаковать. Рядовой Нечипоренко, богатырского вида и склада человек, пока рассматривал шапку, отложил автомат, а, когда раздалась команда: «Вперёд! В атаку!», – закинув ППШ[1]за спину, схватил со злости лежавший рядом топор и кинулся на врага.
На этот раз немцы дрогнули и, покидая свои траншеи, побежали. Какой покрепче – тот бежит сильнее, какой послабее – тот попадает под удар топора Нечипоренко. Ротный кричит про одного из отставших немецких доходяг: «Рядовой Нечипоренко! Не убивать! Брать живым!» Но Нечипоренко в ответ: «А до хрена их тут!» И, точно воспарив над землёй, вихрем летя вперёд, рубил направо и налево клятых фрицев.
Когда же на новом, отбитом у немцев рубеже, началась разборка боевых действий, ротный строго спросил: «Рядовой Нечипоренко! Вам было приказано не убивать, брать живым. Почему не выполнили приказ?» – «Так он же мог меня убить! Видишь, шапка прострелена?!» – без следа смущения, молниеносно ответил рядовой. – «Но это ж, может быть, не он?» – усомнился ротный. – «Как – не он? – слегка даже обиделся на ротного за его сомнения Нечипоренко. – Он! Я же видел!!!»
Хотя, понятное дело, как можно увидеть, кто в тебя стрелял во время стремительного наступления на противника.
За мной – на Варшаву
Впервые после долгих лет забвения фронтовиков по-настоящему вспомнили при Брежневе – в 1965 году. Вся страна тогда праздновала XX-летие нашей славной Победы! Один герой того времени, реальный участник Великой Отечественной войны, явился домой после городского мероприятия в стельку готовенький и всю ночь Варшаву брал, кричал во сне: «За мной на Варшаву!». Потом, когда случалось ему приходить в подобном виде, жена неизменно спрашивала: «Ну, что? Сегодня опять Варшаву брать будем?!»
Откуда топаешь, служивый
Так это было или нет, не могу утверждать. Но передам эту историю в том виде, в каком услышал. А рассказал её двоюродный дядя (он как раз под командованием Рокоссовского воевал – мне это доподлинно известно). Но вот, насколько всё соответствует действительности – ручаться не берусь. Врать про себя, как и многие из его поколения, Иван Константинович, так звали дядю, был не способен. Им совесть не позволяла этого делать. Но восторгаться отчаянием и геройскими поступками своих соратников, боевых друзей и товарищей они умели столь искренне и сердечно, что нам остаётся только завидовать.
Иван Константинович любил махорку посмолить. Зная это дело, когда у меня сигареты кончались, бежал к нему и угощался куревом. Вот так, смоля однажды цигарку за компанию со мной и вспоминая разные разности, он усмехнулся и рассказал, как на фронте во время войны Рокоссовский Константин Константинович к ним в боевые ряды приезжал.
Освободили Бобруйск. Закончилась Бобруйская наступательная операция. Константин Константинович только что маршала получил и прибыл на бойцов своих посмотреть. Идёт вдоль строя и вдруг остановился возле пехоты, глянул на одного из стоявших там на вытяжку, по стойке «смирно», и спрашивает:
- Откуда топаешь, служивый?
- С Курской дуги, товарищ маршал!
- А почему наград не вижу?
- А у нас как, товарищ маршал? Машке за езду (тут, понимаете ли, совсем другое слово было употреблено) Красную Звезду, а Ивану за атаку – кол (и здесь тоже совсем иное, более солёное словцо прозвучало) в сраку!
Рокоссовский резко развернулся и со всей свитой, сопровождавшей его, потопал дальше. Те же, кто был рядом с пехотинцем, прошагавшим с боями от Курской дуги и в живых оставшимся, взялись сочувственно журить его.
- Ну, ты что? Тебя же могут расстрелять за такое?!
- А мне всё равно, – махнул рукой солдат.
«Но через две недели, представляешь? – глаза моего дяди Ивана Константиновича ярко засияли. – К этому парню приходит награда – орден Красной Звезды. Во как бывает. Понимаешь?»
Барачная эпоха
Я застал ещё её – барачную эпоху. В привокзальном районе, где мы жили с родителями и где размещался наш стандартный, жёлтого цвета, двухэтажный кирпичный дом пятидесятых годов двадцатого века с двумя подъездами, обрамлёнными простеньким лепным декором, и таким же непритязательным декором на фасаде над парой окон, и на углах здания, – на окраине, завершая постройки жилого массива, у подножья восходящих к небу гор, вдоль шоссе «красовались» два одноэтажных длинных дома-барака (квартир примерно на десять – и один, и второй). Бараки были на фундаменте, в каждой квартире имелись печь и выход на улицу. Прилегающая к баракам территория была обустроена: на ней располагались уличные скамейки, сооружения для спортивных занятий – турник, гимнастическое бревно, конь прыжковый, качели. Я это всё к тому подробно перечисляю, чтобы показать, как неглупо мы жили, и ещё затем, чтобы вы, дорогие читатели, как можно ярче ощутили степень превосходства того времени над теперешним.
Вот чего хочет добиться либеральная публика, цепляющаяся за наше военное поколение, делая это якобы с той лишь целью, чтобы найти «настоящих героев» среди не настоящих, созданных будто бы пропагандой, властью советской? Пропаганда-то пропагандой – ею весь мир по сей день занимается, – но наши отцы и деды, они сами из уст в уста передавали такую правду о себе, что либералам, занятым откровенным расчеловечиванием и дегероизацией российской официальной истории никогда не истребить из памяти людской её народную суть.
Нашим дедам и отцам не в чем каяться. Они прошли, пережили и унесли всё с собой – на небо, а негодяи, гробокопатели годами препарируют их жизнь. Пусть каются те, кто запускает в их довоенное, военное и послевоенное прошлое свои грязные руки, языки, моет им косточки. Разберитесь с настоящим, а то ведь боитесь вести сиюминутную битву, поэтому и придумываете борьбу с безответным прошлым.
Но, возвращаясь туда, в тот тёплый предзакатный июльский вечер моей безоблачной юности, я вспоминаю следующее: дворовая территория, когда я приближался к ней, продвигаясь к школьному другу, жившему в самом конце второго барака, гудела. Особенно шумно было в центральной части первого барака, где сильно буянил в окружении детворы и местных женщин дядя Петя Шевченко, отец одного из моих товарищей по школе, танкист с лицом в рубцах от ожогов (дважды горел в подбитом танке), фронтовик настоящий(!), а не языком приписавший себе подвиги. Он где-то напился и разбуянился: жена же в ответ закрылась и домой не пускала. Тогда, находясь на улице, он взял неизвестно откуда дубину и полетел к окнам своей квартиры. Бабы ему кричат:
- Ты что творишь, Петька? Тебя же посадят!
А он:
- Кто меня посадит? У меня двадцать два ордена! – И как шандарахнет дубиной, так и повыбивал все окна к чёртовой матери. Силища-то была – как-никак крановщиком работал на угольном складе.
Подъехал милицейский «воронок», повыскакивали из него бойцы «невидимого фронта», как тогда в песнях про милицию пели, под белы рученьки схватили, скрутили и увезли соколика с «двадцатью двумя орденами» (а грудь у него действительно, когда надевал выходной костюм, вся в орденах и медалях была) в кутузку.
Утром следующего дня, по слухам бесперебойно работавшего тогда «сарафанного радио», дядя Петя пешим вернулся домой: шёлковый – тише воды, ниже травы и хорошо протрезвлённый – никакого буйства, никакого возмущения.
Что меня всегда поражало в их поколении – это сила характера. У дяди Пети, например, она одинаково мощно проявилась, когда он кричал «у меня двадцать два ордена!» и когда вернулся домой «тише воды, ниже травы».
Поэтому не смейте. Никогда не смейте плохо говорить о наших отцах.
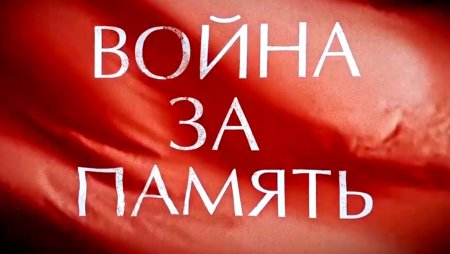
Председатель
В Новозыбкове, куда я ездил в апреле 2005 года по просьбе восьмидесяти однолетней в ту пору своей мамы, чтобы собрать документы, которые она из-за послевоенного убытия на новое место жительства своевременно не получила, а теперь вот с моей журналистской помощью решила всё восстановить, пополнить трудовой и военный стаж, и получить дополнительные льготы.
Переписка с архивами не принесла нужных результатов: что-то уничтожено было немецкими бомбёжками, что-то сгорело, улетучилось после войны. Но зато, находясь в этом постоянном режиме поиска, начиная с осени 2004 года, мне удалось наткнуться на живых свидетелей, кто хорошо знал маму, помнил и хранил о ней добрую память.
И поэтому я поехал в деревню Синий Колодец, Новозыбковского района, Брянской области, где с рождения, никуда не выезжая, проживали хорошо знавшие мою маму свидетели. А когда их свидетельские показания были готовы, составлены, подписаны и заверены в сельской администрации, я, чтобы всё было ещё надёжнее в смысле достоверности, обратился в городскую администрацию Новозыбкова с просьбой заверить и у них этот судьбоносный для мамы документ.
Меня очень доброжелательно принял зам главы города, ведавший социальными вопросами и ветеранскими организациями. Он был настолько любезен, что, прощаясь, подарил мне книгу, посвящённую Победе советского народа в Великой Отечественной войне, а героями её были новозыбковцы. И теперь каждый раз, когда вспоминаю тот случай, то испытываю чувство глубокой благодарности к этому чудо-чиновнику с большим, не равнодушным к жизни, сердцем. Придя в гостиницу, я погрузился в «подарок» и тут же совершенно случайно, бегло читая и листая книгу, обнаружил рассказ о моём дяде, ещё одном двоюродном брате мамы, к которому всегда испытывал сердечную любовь и привязанность, потому что он являлся ещё и моим крёстным отцом.
А вот уже сегодня, накануне приближения 75-летия нашей Великой Победы, я решил и сам написать об этой истории, имеющей прямое отношение к моему двоюродному дяде, к моему крёстному отцу, которого нет уже на белом свете, а светлая память о нём живёт. И чтобы сохранить её такой, какая она есть, я не стал ничего ни добавлять, ни приукрашивать. Всё оставил так, как напечатано в подаренной мне книге «Звон памяти». Итак, вот эта история:
«Колхоза и посёлка Красный Ратов не существует с 1960 года. Но память о людях, там живших, сохранилась в памяти народной. Много легенд ходят о председателе колхоза «Красный Ратов» Павленко Онуфрии Константиновиче. Единственный штатный работник колхоза, счетовод Анна Степановна Рутько, рассказывает:
- Онуфрий Константинович [люди звали его по-деревенски ласково и почтительно Напрей (прозвище это он получил скорее всего, как трудолюбивый сельчанин – от глагола «преть» в значении «потеть» – Ю.К.)] был человеком исключительно честным и уважительным. Раненым вернулся с фронта в 1944 году. Женщины избрали его председателем колхоза. В посёлке было 23 двора. Из мужчин 7 немощных стариков. Остальное население – дети да женщины. Бедность была ужасная. Немцы ограбили население и колхоз. Однажды весной мне с Павленко на подводе пришлось ехать в Новозыбков на какое-то совещание. Приехали, да босиком. Когда вошли в кабинет председателя райисполкома Гордиенко Г.И., Павленко споткнулся о ковёр и по-русски выругался: в магазине нет материи для штанов (он ходил в старых солдатских брюках), а тут под ногами лежит барская роскошь. Гордиенко упрекнул его:
- Счетовод босая – простительно, а ты же – председатель. Мы разрешили колхозу продать двух бычков для покупки сена, чтобы кормить лошадей. Ты что не мог себе заодно купить хотя бы тапочки?
Онуфрий покачал головой и ответил:
- У меня были собственные вожжи – я их отдал в колхоз. А чтобы взять колхозную копейку – пусть отсохнут мои руки.
Напрей с севалкой шагал по колхозному полю. Первым становился с женщинами на покос. После сдачи государству госпоставок и засыпки семян, он раздавал колхозникам рожь снопами, а картофель рядками в поле. Поэтому ничто не пропадало.
Однажды секретарь райкома приказал Напрею воздержаться от выдачи колхозникам на трудодни хлеба. Напрей возмутился:
- Оставить сирот и детей фронтовиков без куска хлеба не позволю! – и тут же положил колхозную печать на стол секретаря райкома партии.
Пришлось на следующий день везти в колхоз печать и убеждать председателя колхоза остаться председателем.
А хлеб Онуфрий Константинович всё же отдал колхозникам».
Такими были наши отцы и деды, отвоевавшие нам жизнь. Праведными были!
[1] Пистолет пулемёт Шагина

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.