
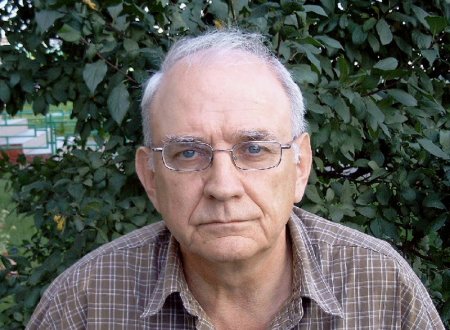
рассказ
В переулке пустом в лужу падает синенький свет из окошка. Феофанов в объятьях сжимал Дегтярёву страстною ночью. Ладно, что там грустить. Пусть одна остается Дегтярёва. Феофанов пойдет мимо церкви сквозь двор проходной, как всегда он ходил к Дегтярёвой. И даже, бывало, с цветами.
Дегтярёва впитывала лучи Феофанова, забывая себя в ночной синеве. Дегтярёва - манящее тело. Флейта, льющая звуки любви для него одного. Слабый свет ночника. Контур нежный лица на подушке. Участилось дыханье, как будто в стремительном беге. Ни догнать, ни унять эту страсть в этот миг им двоим невозможно. Трепетанье, волненье, стесненье от перевоплощенья в диких, жутких существ. В этой женщине единственной, полностью, сфокусировалось всё блаженство жизни. А Феофанов болезненно переживал, что Дегтярёва со временем превратится в старуху, станет некрасивой, и, как церковная тонкая свечка, совсем погаснет. А Феофанов так и будет бодро шагать по бульвару, представляя, что за руку держит свою любовь. Её взгляд чуть с улыбкой в тени синим шелком сверкает. Что-то птичье, невинное есть в этой песне любви. И он видел её пред собой, отстраняя тревожные мысли, но они, как ни брось, составляли всю силу любви. Мысль о бренности тел вызывала в нём пламенный ужас, но светилась звездой Дегтярёва, владея бессмертным лучом. Всё погаснет, бесспорно, но звездочка будет в окне.
Был уверен и точен в движениях скальпель хирурга - Феофанов провёл операцию очень прилежно. Он во всем достигал, как желал, красоты демиурга. Медсестра Дегтярёва взяла его за руку нежно. Может быть, все врачи рождены для словесного дара: Кобо Абэ, Рабле, Буссенар… и, конечно же, Чехов… Феофанов, хирург, был зависим от слова недаром, он писал свою жизнь не спеша, не гонясь за успехом.
Перешёл Феофанов длинный мост, то на златого прямого Ивана Великого глядя, то на вышку высотного дома в Котельниках, не спеша миновал этот мост у впадения Яузы в Волгу. Феофанов исключал Москву-реку из потока сознанья, называя её сразу Волгой. Что правда. Если снять все слова из названий, то названий не будет. Будет просто «вода», да и та испарится без слова. Феофанов с любимой своей Дегтярёвой обожал этот мост. Они вечно ходили к метро по нему, чуть обнявшись. От Дегтярёвой пахло яблоками. Феофанов любил этот запах. Вдыхал его полною грудью. И срывал эти райские яблочки каждою ночью. А, случалось, и днём.
Ходит так по Москве Феофанов с румяным яблоком своим Дегтярёвой. Любит "Иллюзион" кинотеатр при впадении Яузы в Волгу. Любит выпить впотьмах, когда луч на экране мерцает. Куросава, Феллини, Тарковский... Не в кафе, не в каком-нибудь праздничном месте. А сразу Феофанов ведет Дегтярёву с бутылкой прозрачной на Котельники в "Иллюзион". Чтоб никто не узнал, как легко отпивают из горлышка горький напиток на последнем ряду в темном зале. В этой вольности - смак! А потом, запьянев, он ведёт её, где ни попадя жадно целуя, по Серебрянической набережной в Николо-Воробьинский переулок слушать драму «Грозу».
У ворот их встречает Островский, как старых знакомых. Покосились домишки, бегущие под гору к речке. Дегтярёва взмахнула руками, как птица при взлете. Драматург бородатый открыл даже рот в изумленьи, и попятился медленно к старым воротам скрипящим. Дегтярёва, как чайка, легко воспарила бесшумно над Николо-Воробьинским переулком, и оттуда, сверху, голос, как клёкот понесся:
- Отчего люди не летают, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горке Воронцова поля, так тебя и тянет лететь. Вот как я сейчас взлетела!
Александр Николаевич крикнул в небо:
- Если вы птица, так играйте же в моей «Грозе»!
Дегтярёва спустилась с небес, и поцеловала Феофанова.
- Сумасшедшей любви на земле не поставишь предела! - воскликнул тот и обнял возлюбленную.
- Драматург нас же видит! - Она рассмеялась при этом.
- Ничего, обнимайтесь! - сказал восхищенно Островский. - Я и сам целоваться любитель. Здесь на горке писал, и её целовал вечерами.
- Мы всё знаем о вас. Вы известный властитель амуров, - Дегтярева сказала, и долу глаза опустила.
Подхватив её на руки быстро, Феофанов под горку помчался.
Феофанов всё время рискует, себя превращая в страницы с бегущими буквами в строчках. Как они не похожи на то, что случалось в реальном положеньи предметов и лиц. Он туда не вернется, даже если захочет. То прошлое перестало являться жизненным фактом, потому что сам факт жизни есть сущий ноль без кодирования знаками. Итак, пишем.
Дегтярёва спросила его.
И Феофанов ответил, даже не ответил, а закричал на весь Николо-Воробьинский переулок, надрывно закричал, как кричали и кричат актёры во всех московских театрах, как будто все кругом глухие, но Феофанов всегда ощущал себя молодым, и кричать ему хотелось, и он закричал за непризнанного гения Треплева:
- Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не надо!
Его книга была о врожденной безвестности тел, о пустых, о несчастных, каких-то потерянных душах, что желают напиться, но всюду им ставит предел государственной службы тяжелая мертвая туша. Человек будет мертв, если слово не льется в сосуд его детской души - ведь она обнажается в книге. Феофанов-хирург отделял своё тело от книг. Книга вечно живет. Ну а тело - не более мига. Человек, как смеситель, лишь очень капризный прибор для работы со словом, для новых его комбинаций, открывающих тайны, которых не знал до сих пор: человечество всюду едино без стран, и без наций.
Этот смутный рассвет он в душе своей тихо узрел. Сила жизни струится по буквам божественной кровью. Тело в Слово вошло. Он, как яблоко, в букве созрел. Он себя повторяет, копируя тело любовью. И невольно рисует любовь, будто Храм на крови. Он себя сохраняет в пропитанных совестью строчках. Всюду девственность тает в младенческой влаге любви и себя раскрывает, как новая клейкая почка. Так и будет всегда - тело в книге веков воскресает. От себя, от хирурга - ремонтника тел, рвётся ввысь, потому как пришла ему истина очень простая - в каждой строчке пульсирует Словом спасённая жизнь.
Золотых колокольчиков звуки утихают в осеннем саду. Паутинка колышется в солнце. В пирамиде застыл фараон с кровеносной звездой меж глазами. Свет холодный лежит по углам. За забором идут конвоиры. На рассвете упал человек. Неуклюже. Был в круглых очках.
Расстрелян.
Дегтярёва спросила Феофанова.
И он ответил.
Покидая любовь в этот вечер сталисто-прохладный, Феофанов послушает звон поперечных трамваев внизу. В чёрном небе стоят фонари с золотыми шарами приветствий. Водосточные трубы сверкают ночными огнями тоски.
Нет, не сразу пойдет. Постоит, отражаясь едва в этой луже, такой примитивно-зеркальной. Убегает опять эта осень сусальных кленовых распятий. Сколько золота сразу и жадно уносит с собою ноябрь, но деревья пустые открыли фасады домов, как картинки открывал Феофанов когда-то, Рембрандтом любуясь, больной.
Каждый прожитый год остается во тьме, словно вовсе и не был. Феофанов идёт одиноко, но чувствует взгляд себе в спину. Кто следит за Феофановым? Кто торопит его всё сильней? Кто Рембрандтом грозит из теней сумасшедшей картиной?
Всё здесь с детства знакомо, как вечно знакома вода в этой луже вечерней, зеркально лежащей у дома. Двухэтажный желток, подоконник с цветами, как в раме. Три ступеньки ведут за скрипящую дверь на диван. Там Дегтярёва, как волна, сладко дышит от неги усталой.
И она не узнает о том, как он точкою сник в перспективе. На углу уже нет старой булочной, с детства знакомой. Как нет храма, в котором, отчаявшись, старенький Тихон проклинал мошкару, облепившую детское солнце.
Не смотри в эти окна. Там нет тебя. Больше не будет. Обойди эту церковь с решеткой. В калитке - иконка. На стене безоконной рекламы холодной отсвет. А здесь к Яузе спуск переулком булыжным, горбатым.
В синем отблеске ночи манят Феофанова голые плечи Дегтярёвой. Вот и сброшено платье - вся белая в неге стоит перед ним. Это сладостный сад Феофанова. Любовь и счастье его, Дегтярёва. Возлюбленные!
А на маленьком столике дольки лимона и кофе.
Дегтярёвой казалось, что спит она крепко, а сердце ищет милого в облаке страсти. Вдруг слышится голос его: "Дай мне яблок вкусить, дорогая моя голубица, дай в росу окунуться и влагу ночную впитать!» И раскрылась она перед ним, и скользнул он в морскую прохладу, так что всё у неё затрепетало внутри.
Целовал её грудь, и живот, и скрываемый остров, и с горячим дыханьем нырял в золотую волну. И у самого дна он почувствовал нервно и остро силу влажной любви, уподобленной сладкому сну. Это всплеск, это шторм, это тонущий, бьющийся парус. Это всхлипы и стоны сближений преступная суть. Это новой волной воскрешается таинство старой, чтобы с мелкою дрожью в пучине любви утонуть.
Феофанов увидел, что книга его светом ярким осветила всю ненависть тех, с кем давно был знаком. «И-и-их! - за спиной Феофанов услышал вдруг всхлип санитарки: - Как не стыдно хирургу писать о постыдстве таком!»
Главный врач пробурчал: «Вы себя уронили так низко… Стали просто каким-то порочным… блудливым котом!» Лишь в короткой юбчонке его секретарь-машинистка подмигнула с хитринкой, мол, встретимся с вами потом.
Рад Феофанов тому, что не дёрнулся, не заметался, а остался спокойным, как крепкий хирург и поэт. Не включил себя в сеть паутины людских пререканий. Сам с собою живёт, создавая свои представленья. Делай только своё, никогда не вступая в чужое.
О тебе пусть болтают, что ты оторвался от мира,
что живёшь, как поёшь, воробьём пролетая над лужей.
Равнодушно взирай на чужую в твой адрес сатиру,
даже бровью не вздрогни, когда о тебе поползут наговоры.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.