ко дню рождения Эдуарда Багрицкого (1895-1934)

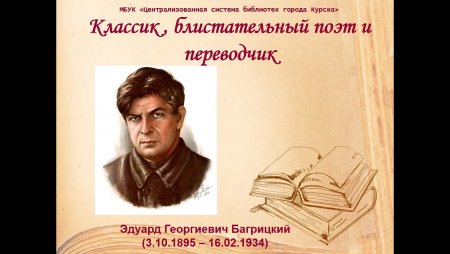
16 февраля 1934 г в Москве скончался 38-летний поэт Эдуард Багрицкий, уроженец Одессы. Публикации тех лет свидетельствуют, что гроб поэта в крематорий Донского кладбища сопровождал эскадрон молодых кавалеристов Красной армии с шашками наголо. В больнице, перед смертью, в последнюю свою ночь, поэт сказал сиделке: «Какое у вас лицо хорошее, — у вас, видимо, было хорошее детство, а я вспоминаю свое детство и не могу вспомнить ни одного хорошего дня».
Кто знает, может быть в этой особенности детских воспоминаний и кроется трагическая загадка этого высокоодаренного человека, поток энергии стихов которого завораживал не одно поколение молодых читателей?
На поверку выяснилось, что идея мировой революции и сыграла злую шутку с Багрицким, как и с Маяковским, и целой плеядой поэтических дарований той поры. Они почувствовали ужас и трагизм эпохи, лишь приблизившись к зрелости и увидев, во что превратилась их общая греза о земном рае, который они мечтали выстроить ценой любой крови.
А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой...
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.
Это Багрицкий 1929-го, в стихотворении «ТВС», в котором явившийся больному автору Ф. Дзержинский (умерший в 1926 г.) говорит про наступающий век. Дальше — поэт словно предвосхищает годы террора:
Враги приходили — на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка…
В сущности, в этом не было новизны для «агитаторов, горланов-главарей», ведь уже в 1921 г. был расстрелян как классовый враг русский поэт, дворянин Н. Гумилев, а Багрицкий меж тем сочинил стихи, в которых речь шла о «зловещем предательстве» Гумилева, коему он, кстати, по молодости лет подражал в стихах. Известный литературовед Н. Харджиев, который знал Багрицкого с детства, автор статьи о поэте в 74-м томе издания «Из творческого наследия советских писателей. Литературное наследство» (1965) в устном высказывании заметил: «Эдуард лжив, как лживы все революционные романтики. Он придумал себе жизнь. Полезнее знать о русском офицере Гумилеве, который был по другую сторону кронштадтского льда». К слову, образ кронштадтского льда — из знаменитого сочинения Багрицкого «Смерть пионерки» (старшее поколение еще помнит этот завораживающий рефрен «Валя-Валентина, что с тобой стряслось?»):
Не противься ж, Валенька! / Он тебя не съест, /
Золоченый, маленький, / Твой крестильный крест.
Разумеется, Багрицкому вольно было писать именно про нательный православный крестик, — как пелось в другой песне по другому поводу, «и нету других забот». Дальше сразу идут яркие и сильные строки, знаменитые в советские дни:
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лёд…
….
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
Почти все цитируемые нами стихи Багрицкого весьма талантливы, некоторые имеют значительную силу прямого воздействия, и не случайно мы и сегодня говорим об этом поэте, размышления о котором нам представляются своевременными по разным причинам.
Понятно, что биография одного из ярчайших комсомольских поэтов, с чьими строками на устах росло не одно молодое советское поколение, была оформлена по его кончине должным идеологическим образом. Справочники, сообразно требованиям эпохи, сообщали, что Эдуард Георгиевич Багрицкий (настоящая фамилия — Дзюбин) родился 22 октября (3 ноября) 1895 г. в бедной одесской семье. Первые два-три года Эдуард был отличником, затем заскучал, стал пропускать занятия, получал переэкзаменовки и, по свидетельству его одноклассника журналиста Б. Скуратовского, «к концу года распродавал все учебники». Два раза оставался на второй год и вскоре бросил учебу. Уже в 16 лет Эдуард стал свободным художником «со стажем», но дарований не растерял. Среди натуралистов-профессионалов считался знатоком высокого класса, даже ихтиологи обращались к нему за консультациями.
И что до еврейской родни Эдику Дзюбину, сменившему свою фамилию на яркий, пламенно-романтический революционный псевдоним Багрицкий? (Известны и другие ранние псевдонимы поэта для одесских газет и юмористических журналов — «Рабкор Горцев», «Некто Вася».) Юноша-интернационалист, как тогда входило в моду, отрицал свои корни, о чем мы прочитываем в его стихотворении «Происхождение»:
Родители?
Но, в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.
Дверь! Настежь дверь!
Качается снаружи
Обглоданная звездами листва,
Дымится месяц посредине лужи,
Грач вопиет, не помнящий родства.
На наш взгляд, отречение от своих родителей всегда пахнет очень дурно, тем более если человек впоследствии не раскаивается.
Но отрицание, конечно, не ограничивалось семьей. Время-то на дворе стояло переворотное, когда молодая зубастая удаль пускала реки «старой» крови во имя светлого будущего молодой Советской республики. «Иди ж вперед тропой бессонной, / Назад с тревогой не гляди, / Дорогой революционной / К огню вселенскому иди».
В 1918 году, во время Гражданской войны, Багрицкий добровольцем вступил в Красную армию, работал в политотделе особого партизанского отряда имени ВЦИК, писал агитационные стихи. После войны работал в Одессе, сотрудничал как поэт и художник в ЮгРОСТА (Южное бюро Украинского отделения Российского телеграфного агентства) вместе с Ю.Олешей, В. Нарбутом, В. Катаевым. Публиковался в одесских газетах и юмористических журналах… Вообще в так называемой южнорусской литературной школе 1920—1930-х годов, которой прославилась Одесса в советские времена, были писатели разных национальностей: русские Валентин Катаев и его родной брат Евгений Петров (Евгений Петрович Катаев, соавтор дилогии об Остапе Бендере), евреи Исаак Бабель, Вера Инбер, Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, поляк Юрий Олеша, украинец Владимир Сосюра, грузин Георгий Цагарели. Школу эту иногда называли по формуле, данной Багрицким, назвавшим так свою книгу — «Юго-Запад» (1928).
В эпатажной среде молодых эстетствующих одесситов господствовал дух протеста против академизма в литературе, в частности против Бунина, который тогда находился в Одессе. Однако к Пушкину Багрицкий и его товарищи относились благоговейно. «Когда мы проходили мимо дома, где жил Пушкин, — вспоминал В. Катаев, — мы молча снимали шапки».
Об эрудиции зрелого Багрицкого ходили легенды. Впоследствии он одним из первых отметил талант молодых А. Твардовского, Д. Кедрина, Я. Смелякова. В «Разговоре с комсомольцем Н. Дементьевым» он засвидетельствовал и другие свои литературные симпатии: «А в походной сумке — / Спички и табак, / Тихонов, Сельвинский, Пастернак...»
Его одолевали начинающие поэты с просьбой выслушать и оценить их опусы, ему приходилось даже скрываться, подделывать голос по телефону. Рассказывают, что он имел обыкновение сразу вычеркивать у начинающих в стихах первую и последнюю строфы, и с этого начинал беседу. По воспоминаниям жены поэта Лидии Густавовны «…Эдуард производил впечатление бесшабашного человека, с очень веселыми глазами. Высокий, сутулый. Все трое (Катаев, Олеша и Багрицкий) ходили одетыми под босяков… Упитанные литераторы в лохмотьях — плохой театр…»
При этом тогдашняя жизнь вся была построена на контрастах. Так поэт Николай Дементьев рассказывал о нищете, в которой жили Багрицкие: «Это были самые невероятные помещения. Семья ела дефицитную ветчину и ютилась в подвалах. В одной комнате заливало до такой степени, что на полу стояли огромные лужи. Однажды во время дождя всю ночь простояли в дверной нише. Знакомые привыкли к такому образу жизни Багрицких и ничуть не удивлялись. Приходили гости, видели лужи от дождя на полу, кричали: «Эй, перевозчика!» Когда родился ребенок, то соседка услышала писк и, войдя в комнату, увидела младенца, лежавшего в грязи; подумала вначале, что подкидыш…»
Примечательно, что жена Багрицкого в девичестве носила фамилию Суок. Необычный звук ее фамилии нам с детства знаком по знаменитому роману-сказке Ю. Олеши «Три толстяка», опубликованному в 1928 году. Дело в том, что Олеша, как и Багрицкий, был женат на одной из трех сестер Суок — Ольге Густавовне.
Багрицкий не дожил до рубежа террора 1930-х, в котором канули поэты ярких дарований — Николай Клюев (1884—1937), Осип Мандельштам (1891—1938), Павел Васильев (1909—1937), Сергей Клычков (1889—1937) и другие, однако вдова Багрицкого, Лидия, репрессированная в 1937 году, из заключения вернулась лишь через 19 лет…
Сын Багрицких, девятнадцатилетний Всеволод, погиб на фронте в феврале 1942 года.
С начала 1930 года у Багрицкого обострилась астма — болезнь, от которой он страдал с детства и из-за которой так и не научился плавать, три десятилетия прожив в Одессе. После четвертого воспаления легких он скончался. «От него — умирающего, шел ток жизни», — заметил И. Бабель.
Если все же отбросить всю шелуху, весь вселенский пафос революционных романтиков, то останутся и яркие строки, которые были посланы этим дарованиям. Остаются в памяти и «Арбузы» Багрицкого, и «Контрабандисты», в которых современного читателя не введут во временное заблуждение мчащиеся, как парусник, горячие строки:
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа Сатырос.
Мы-то и сегодня понимаем, что ничуть не утратили актуальности слова «Ай, Черное море!.. / Вор на воре!»
Совсем крутой, странно-прихотливый замес случился в поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», эпиграфом к которой взяты строки из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки». Поэма Багрицкого связана с Кобзарем также и стихотворным размером, заимствованным в «Гайдамаках». Литературоведы обращают внимание на постоянные, в духе шевченковских восклицаний, неоднократные обращения Багрицкого к главному герою поэмы Опанасу, к родине Украине, мы слышим и народный, в размере коломыек стих, сдобренный украинизмами «жито», «ненька», «катюга», «хлопец». (Актуальное для левого марша словцо «катюга» — образовано от слова «кат», то есть «палач».)
Револьд Банчуков в статье «Одесса—Кунцево—Вечность» высказывает надежду, что будущие исследователи литературы еще скажут о влиянии на Багрицкого знаменитой поэмы И. Сельвинского «Улялаевщина», написанной в 1924 г. Мы здесь коснемся этой темы лишь замечанием, что и стихотворные размеры поэм Багрицкого и Сельвинского частично совпадают, и есть тематические схождения, поскольку в обеих речь идет о бандах, каковых в те смутные времена — разнузданности лихих людишек — было очень много.
Одушевленные описания природы в «Думе про Опанаса» сравнивали со «Словом о полку Игореве». «Прыщут стрелами зарницы, / Мгла ползет в ухабы, / Брешут рыжие лисицы / На чумацкий табор» — так писал одаренный Багрицкий, у которого вдруг появляются почти пророческие строки даже и из сегодняшней жизни: «Див судит полночным криком / Гибель Приднестровью».
Актуальна и нынче проблематика пятисотстрочной поэмы Багрицкого, попытавшегося описать трагедию украинского крестьянина, в самом деле обманутого всеми скоротечными режимами. И новейшие два десятилетия, глядя на череду разрушительно сменяющихся украинских правительств, обилие безответственных властителей, вполне можно горько и безнадежно вздохнуть «багрицкими» стоками:
Тополей седая стая, / Воздух тополиный... /
Украина, мать родная, / Песня-Украина!..
Не хотел воевать малоросс-хлебороб Опанас, силой мобилизованный в продотряд комиссара Иосифа Когана, не хотел убивать своего бывшего командира, а привелось.
Украина! Мать родная! / Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы, / А теперь — в бандиты.
Забавная трансформация? Видимо, автор поэмы, революционный романтик, наивно считал, что запорожцы и бандиты — это явления разных порядков.
Комиссара Когана, отстаивавшего ценности мировой революции, Опанас, искавший выхода, все же порешил. Автор же заканчивает поэму словами, идущими от его собственного сердца: «Так пускай и я погибну / У Попова лога, / Той же славною кончиной, / Как Иосиф Коган!..» В 1949 г., в период кампании по борьбе с «безродными космополитами», «Литературная газета» в статье «За идейную чистоту советской поэзии» объявила «Думу про Опанаса» сионистским произведением, клеветой на украинский народ…
Околдовывают своим строем и напором многие стихи Багрицкого, в том числе и проникнутые советским пафосом. Многие из нас были ими очарованы долгие годы. Но более прочих помнится чудесное стихотворение Багрицкого «Птицелов» (1918), пожалуй, вершинное у поэта, ставшее замечательной песней благодаря музыке и исполнению С. Никитина. Оно начинается памятной строфой «Трудно дело птицелова: / Заучи повадки птичьи, / Помни время перелетов, / Разным посвистом свисти». В стихотворении, состоящем из 14 катренов, есть особо щемящая строфа:
И пред ним — зеленый снизу,
Голубой и синий сверху —
Мир встает огромной птицей,
Свищет, щелкает, звенит.
Заканчивается сочинение грустным обращением «Марта, Марта, надо ль плакать, / Если Дидель ходит в поле, / Если Дидель свищет птицам / И смеется невзначай?»
Друг поэта Валентин Катаев, перетащивший его из провинции в Москву, в книге «Алмазный мой венец» (достоверность фактов в которой многие воспринимают очень критично) назвал Багрицкого, автора стихотворений «Птицелов», «Голуби», большого любителя и знатока птиц, «птицеловом»: «Я и глазом не успел моргнуть, как имя птицелова громко прозвучало на московском Парнасе».
О Багрицком с молодости говорили, да и он сам о себе, как о романтике, любителе Александра Грина, корсаров, дальних странствий, грезившем Летучим Голландцем. Багрицкий переводил на русский Роберта Бернса, Томаса Гуда и Вальтера Скотта, Джо Хилла и Назыма Хикмета, М. Бажана и В. Сосюру.
Юная взволнованная душа, наверное, поплачет вместе с Мартой о Диделе-птицелове, а наша печаль — в том, что недолгая жизнь, творчество и судьба чрезвычайно одаренного поэта Багрицкого — яркая иллюстрация мысли о том, что дьявол начинается с пены гнева на губах ангела…

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.