
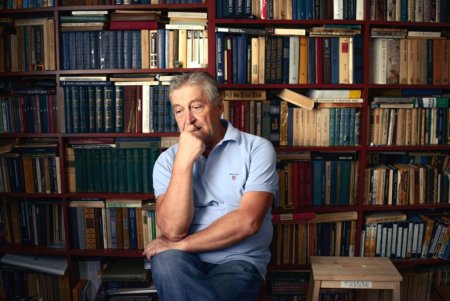
…Не я словарь по слову составлял,
А он меня творил из красной глины…
Арсений Тарковский.
Арсений Тарковский воспринимал поэзию как жизнетворчество, отчетливо осознавал, что созданное им оказывает обратное воздействие на его жизнь. Отчего приходится иногда большой ценой (судьбой!) расплачиваться за «паспортное сходство строки с самим собой».
Мог ли он, например, знать, что с ним произойдет, когда в 1942 году под Сухиничами писал: «Немецкий автоматчик подстрелит на дороге,/ Осколком ли фугаски перешибут мне ноги…»? А произошло – в декабре 1943-го - почти предсказанное: ранение, газовая гангрена, ампутация левой ноги.
В том же 1943-м, будучи еще на фронте, он слагает стихи «Ночной дождь», адресованные Антонине Бохоновой, его жене во втором браке. Вспоминает былые встречи, пишет о своей любви и
О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила…
И она, на самом деле, прожила «так мало», скончавшись в марте 1951 года…
Следуя этой логике, мы готовы воспринимать и саму жизнь Поэта как Текст, им творимый. Причем творимый именно в его художественном преломлении, то есть в самих произведениях, которые вкупе и становятся организующим для событий жизни моментом.
Внимательный читатель, листая страницы сборников Арсения Тарковского, а в особенности его «Избранного» (1982), тотчас убедится, что стихи поэта превращаются в своеобразный комментарий к ключевым моментам его жизни. Мало того, этот поэтический комментарий слагается в повествование, где события жизни становятся стихами-эпизодами. Так наращивается, выстраивается сюжет лирического романа-исповеди Поэта, начиная едва ли не с самого момента появления на свет героя этого романа.
«Душу, вспыхнувшую на лету,/Не увидели в комнате белой…» - выдыхает Арсений Тарковский в 1976 году. И перед нами разворачивается таинство рождения Поэта в сакральном для него месяце июне, когда «столько было сирени…, что сияние мира синело». 25 июня 1907 года превращается в библейский День творенья! И в этом нет ничего удивительного, если принять во внимание, что в этот день появился на свет Поэт. Или, по логике слагаемого Тарковским сюжета, - новый Адам, наделяющий обновленный с его рождением мир новыми же именами.
…И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням…
(Степь, 1961)
Кстати говоря, и степь здесь - возведенный в образ факт биографии Поэта. Пространство мировоззренческого становления, где, по сюжету его лирического романа, с ним рядом незримо шел его духовный наставник - философ и поэт Григорий Сковорода.
Не только время рождения, но и место рождения Поэта, город детства и ранней юности Елисаветград, обретает свою образную ипостась в лирике Тарковского, мечтавшего о создании сборника стихов Город детства. Его родители, мать Мария Даниловна и отец, бывший народоволец, Александр Карлович Тарковские, брат его любимый Валерий, полегший шестнадцатилетним в сражениях Гражданской войны; его становление как поэта и его фронтовые дороги уже в войну Отечественную, его ранение и как последствие – инвалидность, его любови, его дети и его жены – все это войдет в Большую Книгу лирики поэта и обретет высокий статус художественного образа.
Иными словами, конкретный факт жизни под мощным преобразующим давлением энергии образа станет в этой Книге инструментом постижения общечеловеческого смысла всего того, что в жизни происходило с Поэтом. Вот абсолютно автобиографический очерк в стихах «Жили-были» (1976). Рассказ о голодном 1919-м, о бедах и страданиях и страны, и конкретной семьи Тарковских.
Брата старшего убили,
И отец уже ослеп,
Все имущество спустили,
Жили, как в пустой могиле,
Жили-были, воду пили
И пекли крапивный хлеб
Мать согнулась, постарела,
Поседела в сорок лет
И на худенькое тело
Рвань по-нищенски надела;
Ляжет спать – я то и дело:
Дышит мама или нет?
Здесь все – довольно сухая регистрация реалий скудного существования в разломе исторической катастрофы, кроме, пожалуй, интимно пронзительного «дышит мама или нет». Но неожиданно и каким-то волшебным образом это привычное пребывание на краю погибели становится не только утверждением Жизни в тяжбе со Смертью, но и рождением, воскрешением к творчеству самого Поэта, которому тогда было только 12 лет.
Первое стихотворенье
Сочинял я, как в бреду:
«Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!»
Так познал я вдохновенье
В девятнадцатом году.
С уверенностью можно сказать, что как Поэт Тарковский вышел из той колыбели Серебряного века, над которой склонялись головы гениев века Золотого отечественной поэзии. Не зря же умные ученые головы называют его то «постакмеистом», то «неотрадиционалистом», то последователем «русского космизма». И все эти определения сводятся к одному: Поэт противостоит хаосу, отстаивая союз человека и Вселенной как вечно становящийся космос.
«Повивальные бабки» и учителя Тарковского - Александр Пушкин, Федор Тютчев, Евгений Боратынский, Иннокентий Анненский, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Владислав Ходасевич. И все они – герои его лирического романа. Как, впрочем, и Марина Цветаева, Николай Заболоцкий…
Это живые голоса, включенные в культурную полифонию поэтического Текста и Текста жизни Арсения Тарковского. Включен в это напряженно диалогическое пространство и упомянутый нами русско-украинский странствующий философ и поэт ХУ111 века Григорий Саввич Сковорода. Вместе с мифическим пространством-временем его странствий – степью. Тот самый «старчик» Сковорода, о котором Асик Тарковский узнал еще в семь лет и который остался его духовным отцом на всю жизнь.
Хорошо известно: как оригинальный поэт Арсений Тарковский по ряду причин, в том числе и политического свойства, стал доступен широкому читателю в своей полноте только после выхода первого сборника уже 55-летнего поэта «Перед снегом» (1962), удостоенного внимательно-восторженного отклика самой Ахматовой. Все это время, то есть почти сорок лет, если учесть, что начало его творческого становления можно отнести к средине 1920-х (первая публикация – «Свеча» (1926)), Тарковский приходил к читателю в блистательных переводах, главным образом, поэзии Востока.
Каталог поэтических имен, ставших внятными русскому читателю благодаря переводам Тарковского, обширен: от гениального араба VI века Абу-ль-Аля аль-Маарри и туркмена Махтумкули до современников Симона Чиковани, Амо Сагияна, Ираклия Абашидзе и многих других. Стали ли эти произведения в таком же смысле комментарием к Тексту жизни Поэта – ведь все они отголосок будто бы чужих ему переживаний? Тем более, что он и сам когда-то обронил: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!» Мы готовы утверждать: да стали, стали именно таковыми!
Сам Арсений Александрович часто дивился одному примечательному обстоятельству. Обращаясь как переводчик к оригиналу, казалось бы, довольно далекому от него, он превращал чужие стихи в кровно свои, будто из его собственной души исходящие. Если не знать, например, что следующие далее строки принадлежат армянину Егише Чаренцу, уничтоженному сталинским режимом, то они, без сомнения, могут восприниматься как исповедь самого Тарковского.
Я затосковал, больной и безумный,
По солнцу, измученный этой сквозной
Ночной немотой, этой ртутной, бесшумной
Бестрепетной мглой под бледной луной…
Писатель Юрий Коваль вспоминал о том, как еще в 1981 году высказал Тарковскому свое восхищение его переводом из Махтумкули, причем называл строки особенно ему понравившиеся. Не назвал он почему-то только вот эти, из цикла «Сын», особо сильно его потрясшие:
…Мой сын не дождался меня:
Он мертв. Из Хивы я три дня
Скакал, и язвило коня
Мое сумасшедшее стремя…
Только гораздо позднее он понял, что удержало его, хотя никак не мог тогда даже предположить этого: фрагмент мистическим образом предсказал раннюю смерть сына поэта, режиссера Андрея Тарковского, в декабре 1986 года.
Вот уж воистину:
…Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!
Итак, дорогой Читатель, ты держишь в руках двухтомник произведений поэта, первый том которого – «Избранное» (1982), собранное и организованное самим поэтом. Второй – то, что в «Избранное» по разным причинам не вошло.
«Избранное» - уникальное явление отечественной поэзии именно как Книга. То есть как та самая Большая Книга лирики Тарковского, о которой здесь все время идет речь. Собрание оригинальных произведений поэта в «Избранном» подчинено глубоко осмысленному композиционному целому. Арсения Тарковского заботит не внешняя фабула, а внутренний сюжет его мировоззренческого становления как человека и поэта в Большом Времени . Перед читателем возникает целостная картина художественного мира Поэта, его личности в творческом развитии. Подобных явлений немного в нашей литературе. В «Избранном» отозвалась, на наш взгляд, традиция «Сумерек» Евгения Боратынского, одного из наиболее почитаемых Тарковским классиков. Ему, как и Боратынскому, необходимо было и себе уяснить, и публике дать понятие о своем совокупном образе мыслей и чувствований, в основе которого лежала бы «соответственность каждого предмета и каждого факта с целою системою мира».
Перед читателем, таким образом, именно та Книга, тот Текст, который, преломляя жизнь поэта, и саму эту жизнь, внешне не собранную, стихийную, собирает и превращает в Текст, исполненный высокого смысла. Открыв «Избранное», читатель неизбежно двинется путем сюжетно-смысловых связей. И каждый раздел Книги (имеется в виду ее первая часть – «Стихотворения»), каждое включенное в нее произведение превратятся на этом пути в эпизод-событие, оправданное композиционным целым.
«Избранное» - в полном смысле книга итоговая не только по отношению к творчеству Арсения Тарковского, но и по отношению к его жизни как таковой. В последнее десятилетие жизни, вплоть до кончины в мае 1989-го, Поэт, по сути, отходит от творческих поисков, прежде всего, по причине физической невозможности. Травма, нанесенная в декабре 1986 года смертью сына, усугубит дело. Годы после выхода в свет «Избранного» сильно ограничат его повседневную активность. Хотя будут еще продолжаться встречи с молодыми почитателями и учениками, пройдет несколько публичных выступлений.
«Избранное» поделено на две части: в первой - оригинальное творчество поэта, включая поселковую повесть «Чудо со щеглом» (1977) и неоконченную поэму «Слепой» (1935); вторая - переводы. Именно первая часть «Избранного» и превращает книгу в Книгу, то есть в своеобразный поэтический миф Арсения Тарковского, созданный как инструмент, прежде всего, постижения, а потом и содержательно-смысловой организации им прожитого и сотворенного. Но и читатель при этом получает в руки средство освоения не только прожитого, прочувствованного и осмысленного поэтом, но и совокупности своих собственных переживаний и размышлений, своего собственного жизненного пути, его, если хотите, божественного смысла. «Избранное» Арсения Тарковского как образный сгусток его творчества в целом возвышает нас вместе с «пленительной шушерой» нашей повседневности до масштабов макрокосмоса, позволяя пережить свою человеческую избыточность в круговой поруке с мирозданием.
В «Избранном» («Стихотворения») пять разделов, включающих лирику Тарковского 1929-1979 годов. Названия разделов, исключая первый «Гостья-звезда (1929-1940)», соответствуют названию сборников, выходивших с 1962 по 1980 годы: «Первый снег (1941-1962)», «Земле-земное (1941-1966)», «Вестник (1966-1971)», «Зимний день (1971-1979)». Уже сами названия – и это скоро понимает читатель - складываются в сюжет жизнетворчества. Причем в сюжет, зачинавшийся еще тогда, когда ни о какой итоговой книге не могло быть и речи. Название первого сборника «Первый снег» как бы предвещало появление и рубежного «Зимний день». Если первый сборник ясно указывал на драму запоздалого прихода поэта (перед первым снегом жизни – на шестом ее десятке) к читателю, то книга 1980 года с такой же ясностью прочерчивала границу подведения жизненных итогов перед окончательным расставанием с Земным. Названия сборников, не говоря уже об их содержимом, воспроизводили трагедийность мироощущения поэта, продиктованную и его эпохой, и его биографией.
Второй том издания – то, что в «Избранное» не вошло. И здесь читателя ожидает интереснейшая творческая работа по восполнению «Избранного» как Текста жизни и творчества поэта стихами-эпизодами, которые он по разным причинам не включил (а то и категорически не мог включить!) в свою итоговую Книгу. Не вошло в нее, например, выше процитированное «Душу вспыхнувшую на лету…», чрезвычайно важное для постижения Вселенной Тарковского, ее истоков, когда образы июньского появления на свет, белого дня детства, дома как райской обители приобретают отчетливо сакральный смысл. Впрочем, как и образ Души, конечно, которую в разных ипостасях метафорически воспроизводят произведения Тарковского.
Образно более объемной и детализированной представят картину «города детства» стихи «Есть город, на реке стоит…» (1930) и «Мне было десять лет, когда песок…» (1932).
А стихи «Стол накрыт на шестерых…» (1940) и «Марина Цветаева» («Все наяву связалось – воздух самый…», 1941) сделают впечатляюще более полным сюжет почти мистического вхождения в жизнь Тарковского Марины Ивановны Цветаевой, встреча с которой произошла в год символического 33-летия поэта.
Трагическая судьба Цветаевой сопряглась в лирике Тарковского с катастрофой Второй мировой войны. Цветаева как один из его персонажей вошла в потрясающей силы цикл «Чистопольская тетрадь», созданный в эвакуации в течение октября-ноября 1941 года. Глубоко интимное событие встречи с Мариной Ивановной и исторически масштабное событие войны так совпали и так пересеклись в лирике Тарковского, что уже не могут не осознаваться как момент, переломный для Поэта, как его преображение, сродное пушкинскому «Пророку». К месту будет сказать, что многоуровневый лирический диалог Тарковского с Александром Сергеевичем включает в себя и перекличку именно с этими стихами классика.
«Чистопольская тетрадь», не вошедшая в «Избранное», должна быть прочитана в том круге стихов-эпизодов, которые порождены непосредственно самой войной или ее поздним эхо. Это, прежде всего, стихи раздела «Перед снегом»: «Полевой госпиталь» (1964), «Иванова ива» (1958), «Зуммер» (1961), цикл «После войны» (1960-1969), другие. Рядом с ними встанут не попавшие в «Избранное» «Когда возвратимся домой после этой неслыханной бойни…» (1942), «Немецкий автоматчик подстрелит на дороге…»(1942), «Не стой тут…» (1943).
И, уж конечно, «Избранное» неудержимо притягивает к себе не вошедшие в его «космогонический» сюжет стихи «Дума» (1947) и поэму «Завещание» (1934-1937). Эти вещи - свидетельство того, насколько рано в творчестве Тарковского начало свое становление его философско-этическое кредо («Поэт и Слово», «Поэт и Мир»), оказавшее содержательно- и формообразующее воздействие на все творчество в целом.
«Завещание» сопровождалось посвящением Андрею Тарковскому и в соответствии с этим прочитывалось (и прочитывается!) как передача Поэтом духовного наследства потомству. Это наследство - Природа и Культура, принимавшие участие в появлении Поэта на свет. Поэт – «отголосок» полифонии культурного целого и одновременно носитель «темной» речи природы. В само- и миропознании он восходит к истокам Слова, чтобы избавиться от сковывающего его «лживого» косноязычия. Его движение рифмуется с путем, которым шли едва ли не все его современники-собратья по ремеслу. Он обретает свободу поэтического голоса и право свое, личное наследство передать потомкам. Именно с этим он и обращается к сыну:
…Я первый гость в день твоего рожденья,
И мне дано с тобою жить вдвоем,
Входить в твои ночные сновиденья
И отражаться в зеркале твоем…
Отец, действительно, отразился в творческом «зеркале» сына – как воспринятый им идеал Художника, как духовный отец, Учитель. Сын воспринял отцовское Наследство.
Но отец передает в наследство и горечь утраты дома, изнуряюще нескончаемое бегство от него! Между тем, завершает поэму выстраданный оптимизм возрождения. Миру является дочь Поэта, еще не рожденная, но в материнской утробе уже воспринимающая Солнце.
И в час, когда твой город исполинский
Весь в зелени восходит на заре, -
Лежишь дитя в утробе материнской
В полупрозрачном нежном пузыре.
И, может быть, ты ничего не видишь,
Но солнце проплывает над тобой…
Завершить эти заметки хочется еще одной цитатой - фрагментом из «Думы»:
…И если за меня спокон веков боролась
Листва древесная -
я должен стать листвой,
И каждому зерну подать я должен голос.
Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный,
и смерти не боится.
Он выплывет еще и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет, наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек,
иль птица.


Великие строки! В них опознаются не только «голоса» Пушкина, Боратынского, Тютчева. Но и - «натурфилософа» Заболоцкого, тоскующих по мировой культуре Мандельштама, Ахматовой, Ходасевича - всех, кто иже с ними и с нами. Опознаются в том естественном их единстве, когда все они переживают сюжет своего жизнетворчества, неизбежно развертывающийся «путём зерна».
Первобытный восторг слитности с «первоосновой жизни» (Мандельштам), к живому естеству которой (к «музыке») восходит и бесплотный знак духа – слово, знаком как Мандельштаму, так и Тарковскому. Им обоим ведом не только путь нисхождения Речи к «кольчецам» и «усоногим», но и путь ее восхождения. Именно этот путь с упорной последовательностью торит Тарковский, по логике «круговой поруки», которой жила и, смеем надеяться, живет высокая отечественная поэзия.
По этой естественной логике, двухтомник, который берет теперь в руки Читатель, есть Явь нашей общей с Тарковским жизни, но именно им наделенная способностью к прямой разумной Речи.
2017.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.