НА ФРОНТЕ Борис Абрамович Слуцкий пробыл все четыре года. Начинал на Смоленщине, закончил в Югославии и Австрии. Был ранен, контужен. Старался служить в тех частях, которые «пехотнее» (этим словечком в письмах с фронта родным и друзьям обозначал высшую меру военных тягот и опасностей). Из его воспоминаний:
«На войне я почти не писал по самой простой и уважительной причине – был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков».
Наверное, ещё и поэтому его мощные строки сегодня нас так поражают:
«Стих встаёт, как солдат,
Нет, он как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух отмороженных рук
землю – всю, глину – всю, весь–- песок...»
Позади у него было захудалое детство в рабочем районе Харькова («Я помню квартиры наши холодные // И запах беды. // И взрослых труды. // Мы все были бедные. // Не то чтоб голодные, // А просто – мало было еды...»), и главное место в этом детстве занимали стихи: сэкономив на школьных завтраках, приобрёл томик Маяковского; книжку Есенина, которую ему дали на сутки, не разгибая спины, переписал в тетрадь... Затем – Москва, юридический институт, а параллельно – Литературный, где рядом оказался и Миша Кульчицкий (земляк, самый близкий друг со школьных лет), и Павел Коган, и Николай Майоров, и Давид Самойлов, и Сергей Наровчатов, и Илья Лапшин, и Борис Смоленский, и Всеволод Багрицкий... Они были талантливы, много обещали, но грянула война – и молодые поэты из студенческих общежитий ушли на фронт... О тех, кто домой не вернулся, он спустя годы скажет:
«Сейчас всё это странно,
Звучит всё это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов –
Фанерный монумент –
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд...»
***
О СВОЕЙ войне, повторяю, Слуцкому писать на фронте времени не было, каждодневные впечатления откладывались на потом, потом... Однако в 1944-м, когда шла битва за Белград, повстречался с одним югославским партизаном. Партизан оказался бывшим нашим военнопленным, который бежал из «кёльнской ямы», и рассказ о проклятом концлагере предварил словами: «Нас было семьдесят тысяч пленных...» Именно ими Слуцкий начал и свое страшное повествование:
«Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
безмолвно и дерзновенно,
Мрём с голодухи
в Кёльнской яме.
Над краем оврага утоптана площадь –
До самого края спускается криво.
Раз в день
на площадь
выводят лошадь,
Живую
сталкивают с обрыва.
Вот она свергается в яму,
Вот её делим на доли неравно,
Вот по конине молотим зубами, –
О бюргеры Кёльна,
да будет вам срамно!
О граждане Кёльна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кёльнской яме
с голоду выли?»
Строки, от которых кровь стынет в жилах... Дальше – о том, как, собрав последние силы, эти люди на стенке отвесной выскребли короткое письмо солдату Страны Советской: «Мы пали за Родину в Кёльнской яме!..» И про то, как тщетно подлецы вербовали их здесь в предатели:
«О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлёбку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладоней выев,
Кончают жизнь товарищи наши!
Землю роем,
скребём ногтями,
Стоном стонем в Кёльнской яме,
Но всё остается – как было! как было! –
Каша с вами, а души с нами.»
***
ДА, ВОЙНУ он прошёл, как говорится, «от звонка до звонка». Узнал её и з н у т р и. И понял великую суть совсем, вроде, незаметного солдата, горькую неотвратимость его трагической судьбы:
«Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал,
С ним офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал...»
Но солдат взял винтовку вовсе не потому, что «ему военкомат повестки слал» и «стучал машинкой трибунал», то есть – должен был следовать жесткой воинской дисциплине и в случае неподчинения боялся суровой, по законам военного времени, кары:
«...Он без повесток, он бы сам пошёл.
И не за страх – за совесть и за почесть.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
А жаловаться никому не хочет».
И нет в этих словах ни высокопарной патетики, ни сентиментальной слезливости, а просто предсмертная тоска и готовность к самопожертвованию, ужас кровопролития и высота духа.
***
ЧЕТЫРЕЖДЫ награждённый боевыми орденами, он вернулся в родные края, и потом жил очень трудно. На одном из обсуждений его стихов в Доме писателей Михаил Светлов с присущей ему грустной иронией сказал: «Надеюсь, всем ясно, что пришёл поэт лучше нас». Но «литсекретари» (Софронов, Грибачёв и другие бездари) думали совсем иначе и гнобили поэта изо всех своих подлых сил. А Слуцкий держал удар, потому что для него точкой отсчёта в своей гражданской и поэтической биографии навсегда стала Великая Отечественная, её политические и нравственные уроки:
«Жизни, смерти, счастья, боли
Я не понял бы вполне,
Если б не учёба в поле,
Не уроки на войне...»
Поэт внёс в осмысление войны свою философию, свои ракурсы, показал великую битву не в «парадном» варианте, без всякой там «лихости» и «гусарства», а «весомо, грубо, зримо». И до последнего дня его терзало чувство вины перед теми, кто с войны не вернулся:
«Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал своё простое имя.
Все буквы – семь, что памятник хранит,
Предстали пред глазами пред моими.
Все буквы – семь – сходилися у нас,
И в метриках, и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь и надо мной светились.
Но пули пели мимо – не попали,
Но бомбы облетали стороной,
Но без вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.
Я в жизни ни о чём таком не думал.
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат».
Последние девять лет в жизни поэта, после смерти горячо любимой жены, были в высшей степени мучительными: находясь в состоянии сильнейшей душевной депрессии, за стихи уже не брался. Когда старый друг по телефону попросил разрешения навестить его в больнице, Слуцкий после долгой паузы сказал: «Не к кому приходить...» Как с печалью написала Юлия Друнина:
«Сам себя присудил к забвению,
Стиснул зубы и замолчал
Самый сильный из поколения
Гуманистов-однополчан...»
Больной, одинокий, надломленный, он к тому же до конца дней казнил себя за однажды случившийся неправедный выпад против Бориса Леонидовича Пастернака...
Лев СИДОРОВСКИЙ

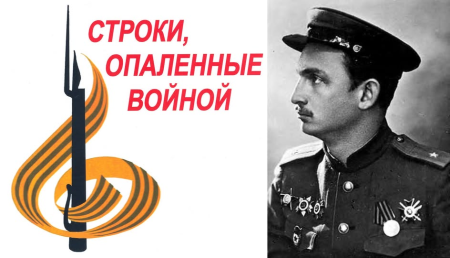
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.