
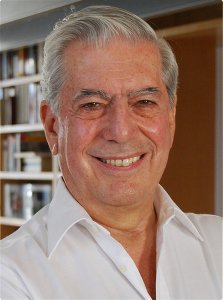
Пусть те, кто сомневается, что литература не просто погружает нас в мечту о красоте и счастье, но и предупреждает нас об опасности любых форм угнетения, зададутся вопросом: почему все режимы, стремящиеся контролировать поведение граждан от колыбели до могилы, настолько ее боятся, что вводят репрессивную цензуру, и так настороженно следят за независимыми писателями? Они делают это потому, что осознают, как опасно позволять воображению вольно бродить по страницам книг, понимают, какой крамолой становятся «выдумки», когда читатель сравнивает выраженную в них — и сделавшую их возможными — свободу с обскурантизмом и страхом, что ждут его в реальном мире.
Я научился читать, когда мне было пять лет — моим наставником был брат Юстиниан из школы де Ласаля в боливийском городе Кочабамба. И это самое важное, что случилось со мной в жизни. Сегодня, почти через семьдесят лет, я отлично помню то волшебство, с которым слова с книжных страниц превращались в образы, обогащая мою жизнь и ломая барьеры времени и пространства. Вместе с капитаном Немо я преодолел двадцать тысяч лье под водой, плечом к плечу с д'Артаньяном, Атосом, Портосом и Арамисом противостоял интриганам, замышлявшим недоброе против королевы во времена хитроумного Ришелье, перевоплотившись в Жана Вальжана, брел по парижским катакомбам с бесчувственным телом Мариуса на спине...
Чтение превратило мечты в жизнь, а жизнь в мечты: целая литературная вселенная оказалась на расстоянии вытянутой руки от мальчишки, которым я тогда был. Мать рассказывала, что первые мои «пробы пера» представляли собой продолжение прочитанных мною книг, потому что мне было жалко расставаться с героями или не нравилась концовка. Пожалуй этим же, сам того не сознавая, я занимался всю жизнь: продолжал во времени — по мере взросления и старения — те истории, что наполнили мое детство восторгом и приключениями.
Как бы я хотел, чтобы здесь сегодня присутствовали моя мать — женщина, которую трогали до слез стихи Амадо Нерво и Пабло Неруды, — и дедушка Педро с незабываемым крупным носом и сверкающей лысиной, так хваливший мои стихи, и дядя Лучо, столь энергично призывавший меня отдаться телом и душой писательскому ремеслу, хотя в то время и в том месте литература весьма скудно вознаграждала своих служителей. Всю жизнь рядом со мной были такие люди — люди, любившие и ободрявшие меня, заражавшие меня своей верой в минуты сомнения. Благодаря им и, конечно, собственному упрямству да толике везения я мог посвящать почти все свое время страсти, пороку, чуду писательства, созданию параллельной жизни, где мы можем найти убежище от бед, жизни, превращающей невероятное в естественное и естественное в невероятное, разгоняющей хаос, преобразующей уродство в красоту, продлевающей минуту до вечности, преодолевающей саму смерть.
Писать — дело непростое. Когда воображаемые истории превращались в слова, замысел рассыпался на бумаге, идеи и образы тускнели. Как вновь вдохнуть в них жизнь? К счастью рядом всегда были мастера, наставники, примеры для подражания. Флобер научил меня тому, что талант — это железная дисциплина и долготерпенье. Фолкнер — тому, что форма (стиль и структура) способна возвысить и обогатить сюжет. Марторель, Сервантес, Диккенс, Бальзак, Толстой, Конрад, Томас Манн — тому, что масштаб и размах в романе не менее важны, чем отточенность стиля и четкая проработка сюжетных линий. Сартр — тому, что слова — это дела, что роман, пьеса или рассказ в определенные моменты и при благоприятных обстоятельствах способны изменить ход истории. Камю и Оруэлл — тому, что литература, лишенная нравственности, бесчеловечна, а Мальро — что героизм и эпос в наши дни возможны точно так же, как во времена аргонавтов, «Одиссеи» и «Илиады».
Если бы в этом выступлении мне нужно было назвать всех писателей, которым я чем-то обязан — многим или малым, — их тени погрузили бы нас во тьму. Им нет числа. Они не только поделились со мной секретами мастерства рассказчика, но и побудили меня исследовать человека во всей его бездонной глубине, восхищаться его подвигами и ужасаться его жестокости. Они были моими лучшими друзьями, из их книг я понял, что и в самых худших ситуациях всегда есть надежда, а жить стоит хотя бы потому, что, не живя, мы не могли бы читать и придумывать истории.
Временами я задумывался: не солипсистская ли роскошь писательское ремесло в таких странах, как моя, где и читателей не так уж много, где столько людей бедны и неграмотны, где столько несправедливости, где культура — это привилегия немногих. Эти сомнения, однако, никогда не пересиливали мое призвание: я продолжал писать даже в те времена, когда большую часть времени приходилось тратить на то, чтобы заработать на жизнь. Думаю, я поступил правильно: ведь если бы для того, чтобы литература расцвела, обществу надо было сначала достичь высокого уровня культуры, свободы, благосостояния и справедливости, ее просто бы не существовало. Но благодаря литературе, благодаря сознанию, что она порождает, стремлениям и желаниям, что она вдохновляет, и разочарованию в действительности, которое мы испытываем, возвращаясь из путешествия в прекрасное царство фантазии, цивилизация сегодня не так жестока, как в те времена, когда сказители только начали очеловечивать жизнь своими выдумками. Без хороших книг, которые мы прочли, мы были бы хуже, чем мы есть, — большими конформистами, менее беспокойными, более послушными, а критического духа — этого локомотива прогресса — не существовало бы вовсе. Чтение, как и писательство, — это протест против неполноты жизни. Когда в плодах воображения мы ищем то, чего не хватает в жизни, мы говорим, не произнося этого вслух и даже не сознавая, что жизнь как она есть не утоляет нашей жажды абсолютного — основы человеческого существования — и она должна быть лучше. Мы даем волю фантазии, чтобы как-то прожить те многие жизни, которые нам хотелось бы иметь, когда в нашем распоряжении лишь одна.
Без воображения мы меньше осознавали бы значение свободы для того, чтобы существование было сносным, и то, в какой ад превращается жизнь, когда ее топчет ногами тиран, идеология или религия. Пусть те, кто сомневается, что литература не просто погружает нас в мечту о красоте и счастье, но и предупреждает нас об опасности любых форм угнетения, зададутся вопросом: почему все режимы, стремящиеся контролировать поведение граждан от колыбели до могилы, настолько ее боятся, что вводят репрессивную цензуру, и так настороженно следят за независимыми писателями? Они делают это потому, что осознают, как опасно позволять воображению вольно бродить по страницам книг, понимают, какой крамолой становятся «выдумки», когда читатель сравнивает выраженную в них — и сделавшую их возможными — свободу с обскурантизмом и страхом, что ждут его в реальном мире. Выдумывая свои истории, писатель — хочет он этого, или нет, понимает или нет — распространяет недовольство: ведь он показывает, что мир несовершенен, а жизнь, рожденная фантазией, богаче повседневности. Если этот факт укореняется в сознании и восприятии граждан, ими становится труднее манипулировать, они с меньшей готовностью принимают ложь следователей и тюремщиков, уверяющих, что за решеткой им живется лучше и спокойнее.
Хорошая литература строит мосты между народами, и, заставляя нас радоваться, горевать или удивляться, объединяет нас, несмотря на барьеры языков, убеждений, привычек, обычаев и предрассудков. Когда большой белый кит уносит с собой в пучину капитана Ахава, в сердцах читателей поселяется один и тот же страх, независимо от того, живут ли они в Токио, Лиме или Тимбукту. Когда Эмма Бовари проглатывает мышьяк, Анна Каренина бросается под поезд, Жюльен Сорель поднимается на эшафот, когда горожанин Хуан Дальманн из борхесовского «Юга» выходит из таверны в пампе на улицу, где его ждет бандит с ножом, когда мы понимаем, что все жители Комалы (родной деревни Педро Парамо) мертвы, читатель — верит ли он в Будду, Конфуция, Христа или Аллаха, или считает себя агностиком, носит ли он пиджак с галстуком, бурнус, кимоно или пончо — содрогается одинаково. Литература рождает братство в многообразии, стирает границы между людьми, созданные невежеством, идеологиями, религиями, языками и глупостью.
У каждого времени свои кошмары. Наше время — это эпоха фанатиков, террористов-смертников: породы, пришедшей из далекой древности, убежденной, что убивая, они попадают в рай, что кровь невинных смывает оскорбление, нанесенное племени, исправляет несправедливость и заменяет ложную веру истинной. Каждый день по всему миру бессчетное число людей становится жертвами тех, кто считает себя обладателями истины в последней инстанции. Когда рухнули тоталитарные империи, мы верили, что теперь в нашей жизни воцарятся гармоничное сосуществование, мир, плюрализм и права человека, что холокост, геноцид, агрессия и истребительные войны остались в прошлом. Но этого не случилось. Пышным цветом расцвели новые формы варварства, вдохновляемые фанатизмом, а распространение оружия массового поражения не дает нам забыть о том, что любая горстка безумных «искупителей» может однажды спровоцировать ядерный катаклизм. Мы должны сорвать их планы, противостоять им, победить их. Их немного, хотя эхо их преступлений разносится по всей планете, а внушаемые ими кошмары наполняют нас ужасом. Мы не должны позволить себя запугать тем, кто хочет отнять у нас свободу, которую мы обретали на протяжении всей истории цивилизации. Нам надо защитить либеральную демократию: при всем своем несовершенстве, она по-прежнему воплощает в себе политический плюрализм, сосуществование, терпимость, права человека, уважение к критике, законность, свободные выборы, сменяемость власти — все то, что выводит нас из дикости и приближает к той прекрасной, идеальной жизни, что рисует литература, жизни, которой нам не суждено достичь и которую мы можем заслужить, лишь придумывая ее, перенося на бумагу, читая о ней. Противостоя убийцам-фанатикам, мы защищаем наше право на мечту и воплощение мечты в реальность.
В молодости, как и многие писатели моего поколения, я был марксистом и верил, что социализм покончит с эксплуатацией и социальной несправедливостью, усиливавшейся тогда у меня на родине, в Латинской Америке и во всем третьем мире. Для меня процесс разочарования в этатизме и коллективизме, превращения в либерала и демократа, каковым я являюсь — стараюсь быть — был долгим и трудным. Он проходил постепенно под влиянием таких эпизодов, как превращение революционной власти на Кубе, к которой я поначалу относился с энтузиазмом, в копию вертикальной советской модели; рассказы диссидентов, которым удалось избежать колючей проволоки лагерей; вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию; и таких мыслителей, как Раймон Арон, Жан-Франсуа Ревель, Исайя Берлин и Карл Поппер, благодаря которым я изменил отношение к демократической культуре и открытому обществу. Эти мастера подавали пример дальновидности и гражданского мужества в те времена, когда западная интеллигенция в результате легкомыслия или конъюнктурности, казалось, полностью поддалась чарам советского социализма или, что еще хуже, влиянию кровавого шабаша китайской культурной революции.
Ребенком я мечтал когда-нибудь оказаться в Париже потому что, очарованный французской литературой, был убежден: если я буду жить там, дышать тем же воздухом, что и Бальзак, Стендаль, Бодлер, Пруст, это поможет мне стать настоящим писателем, а оставшись в Перу, я так и буду «литератором по выходным». И действительно, Франции и французской культуре я обязан неоценимыми уроками: например, что литература — это не только вдохновение, но в такой же степени дисциплина, труд, упорство. Я жил там, когда были еще живы и творили Сартр и Камю, во времена Ионеско, Беккета, Батая и Сиорана, драматургии Брехта и фильмов Ингмара Бергмана, Национального народного театра Жана Вилара и «Одеона» Жана-Луи Барро, «новой волны» и «нового романа», блестящих выступлений Андре Мальро и, пожалуй, самого грандиозного зрелища тогдашней Европы — пресс-конференций и речей «громовержца» генерала де Голля.
Но больше всего, пожалуй, я благодарен Франции за то, что она помогла мне открыть для себя Латинскую Америку. Там я понял, что Перу — это часть гигантского сообщества, объединенного историей, географией, общими социально-политическими проблемами, определенным образом жизни и великолепным языком, на котором оно говорит и пишет. В те самые годы это сообщество рождало новую, мощную литературу. Во Франции я прочел Борхеса, Октавио Паса, Кортасара, Гарсиа Маркеса, Фуэнтеса, Кабреру Инфанте, Рульфо, Онетти, Карпентьера, Эдвардса, Доносо и многих других. Их произведения обновили испаноязычную литературу, и благодаря им Европа и многие другие регионы мира узнали, что Латинская Америка — это не только перевороты, опереточные диктаторы, бородатые партизаны, маракасы, мамбо и ча-ча-ча, но и идеи, художественные формы, образы, не только экзотические, но и говорящие на общечеловеческом языке.
С тех времен и до сегодняшнего дня Латинская Америка — не без сбоев и ошибок — прошла немалый путь, хотя, как говорится в одном из стихотворений Сезара Вальехо, «hay, hermanos, muchísimo que hacer [братья, еще так много предстоит сделать]». У нас стало гораздо меньше диктаторских режимов — если не считать клоунских популистских псевдодемократических систем, как в Боливии и Никарагуа, они сохранились только на Кубе и в Венесуэле, объявившей себя ее преемницей. Однако в остальных странах континента демократия работоспособна, пользуется поддержкой большинства народа, и впервые в нашей истории в Бразилии, Чили, Уругвае, Перу, Колумбии, Доминиканской Республике, Мексике, практически во всей Центральной Америке и правые, и левые привержены законности, свободе критики, выборности и сменяемости власти. Это верный путь, и если Латинская Америка не свернет с него, будет бороться с ползучей заразой коррупции и продолжит интеграцию с внешним миром, она наконец превратится из «континента будущего» в континент настоящего.
Я никогда не чувствовал себя чужаком в Европе — да и собственно нигде. Везде, где я жил, — в Париже, Лондоне, Барселоне, Мадриде, Берлине, Вашингтоне, Нью-Йорке, Бразилии, Доминиканской Республике — я ощущал себя как дома. Я всегда находил «логово», чтобы спокойно жить, работать, узнавать что-то новое, мечтать, находил друзей, книги и сюжеты. Мне не кажется, что непреднамеренное превращение в «гражданина мира» как-то ослабило мои «корни», мою связь с родиной — ведь перуанские впечатления по-прежнему питают меня как писателя, и всегда появляются в моих книгах, даже если их действие происходит далеко от Перу. Думаю, напротив, долгая жизнь за пределами страны, где я родился, лишь укрепила эту связь, позволяет яснее ее видеть и рождает ностальгию, способную отделить главное от второстепенного, поддерживающую живость воспоминаний. Родину любишь не по обязанности: как и любая другая любовь, это спонтанный зов сердца вроде того, что объединяет возлюбленных, родителей и детей, или друзей.
Перу всегда во мне, потому что там я родился, вырос, сформировался, пережил тот опыт детства и юности, что определил мою личность, мое призвание, там я любил, ненавидел, радовался, страдал и мечтал. То, что происходит там, волнует, трогает или бесит меня больше, чем все, что случается где-либо еще. Здесь нет моей воли, моего желания — это просто так и есть. Некоторые соотечественники обвиняли меня в предательстве, и я чуть не лишился гражданства после того, как в период последней диктатуры призвал демократические страны мира ввести дипломатические и экономические санкции против режима — за что я выступал в отношении любых диктатур любых мастей — Пиночета, Кастро, талибов в Афганистане, имамов в Иране, апартеида в ЮАР или сатрапов в погонах в Бирме, которая теперь зовется Мьянмой. И я снова поступлю так же завтра, если — да не допустят этого судьба и перуанцы — моя страна снова станет жертвой переворота, который погубит нашу хрупкую демократию. Это был не поспешный, эмоциональный поступок обиженного человека, как полагали некоторые писаки, привыкшие мерить других собственной мелочной меркой. Я исходил из убежденности, что диктатура — это абсолютное зло для любой страны, источник жестокости и коррупции, что она наносит глубокие раны, которые очень долго не заживают, отравляет будущее нации, создает пагубные привычки, сохраняющиеся на целые поколения вперед и тормозящие возрождение демократии. Поэтому с диктаторскими режимами надо без колебаний вести борьбу всеми имеющимися у нас средствами, включая экономические санкции. Прискорбно, что правительства демократических государств, вместо того, чтобы подать пример другим, встав плечом к плечу с теми, кто, как организация «Дамы в белом» на Кубе, венесуэльская оппозиция, Аун Сан Су Чжи или Лю Сяобо, смело противостоит диктатурам в своих странах, часто начинают расшаркиваться перед их мучителями. Эти мужественные люди, борясь за свою свободу, борются и за нашу.
Мой соотечественник Хосе Мария Аргедас назвал Перу страной «смешения всех кровей». Лучшего определения не найти. Мы именно таковы, и именно это живет внутри любого перуанца, хочет он того или нет: совокупность традиций, рас, верований и культур, состоящая из четырех основных частей. Я с гордостью ощущаю себя наследником доиспанских культур, создавших ткани и накидки из перьев из Наска и Паракаса, керамику мочика и инков, храняющуся в лучших музеях мира, построивших Мачу-Пикчу, Чиму, Чан-Чан, Куэлап, Сипан, гробницы в Эль-Брухо, Эль-Моль и Ла-Луна, и испанцев, что вместе с седлами, шпагами и лошадьми принесли в Перу Грецию, Рим, иудео-христианскую традицию, Ренессанс, Сервантеса, Кеведо, Гонгору и чеканный язык Кастилии, смягченный Андами. А вместе с Испанией к нам пришла и Африка с ее силой, ее музыкой и ее кипучим воображением, еще больше обогатив многообразие Перу. Стоит копнуть чуть глубже, и мы поймем, что Перу, как «Алеф» Борхеса — это весь мир в миниатюре. Какая потрясающая честь для страны — не иметь идентичности, потому что в ней слились все идентичности!
Конечно, завоевание Америки — как и любое завоевание — было жестоким и кровавым, и эта жестокость, несомненно, заслуживает критики. Но при этом мы часто забываем то, чего забывать не следует: люди, виновные в этих грабежах и преступлениях — наши собственные прадеды и прапрадеды, испанцы, приплывшие в Америку и воспринявшие американский образ жизни, а не те их соотечественники, что остались на родине. Чтобы такая критика была справедливой, она должна быть самокритикой. Ведь двести лет назад, когда мы обрели независимость от Испании, те, кто пришел к власти в бывших колониях, не освободили индейцев, не исправили прежнюю несправедливость, а продолжали их эксплуатировать с такой же алчностью и свирепостью, как иноземные завоеватели, а в некоторых странах даже полностью или частично истребили коренное население. Скажем со всей прямотой: в течение двухсот лет освобождение индейцев было нашей и только нашей обязанностью, и мы ее не выполнили. Этот вопрос по-прежнему нерешен по всей Латинской Америке — стыд и позор для нас всех, без исключения.
Испанию я люблю не меньше, чем Перу, и мой долг ей столь же велик, как и моя благодарность. Если бы не Испания, я никогда не стоял бы на этой трибуне, никогда не стал бы известным писателем, и возможно, как многие мои менее везучие коллеги, оставался бы в той сумеречной зоне, где бродят писатели, которым не улыбнулась фортуна, которые не получают премии, чьи книги не издают и не читают и чей талант — слабое утешение! — возможно когда-нибудь откроют для себя потомки. Все мои книги были изданы в Испании, там я получил отчасти незаслуженное признание, а друзья — Карлос Барраль, Кармен Бальсельс и многие, многие другие — заботились о том, чтобы мои истории нашли своих читателей. Кроме того, Испания дала мне второе гражданство в тот момент, когда я мог потерять первое. Я никогда не считал чем-то неестественным то, что я, перуанец, имею испанский паспорт, поскольку всегда рассматривал Испанию и Перу как две стороны одной монеты, и не только в отношении моей скромной персоны, но и в таких основополагающих вопросах, как история, язык и культура.
Из многих лет, что я прожил на испанской земле, мне ярче всего запомнились те пять, которые я провел в горячо любимой Барселоне в начале 70-х. Франкистская диктатура еще оставалась у власти, еще стреляла в людей, но к тому времени это была мумия в истлевших лохмотьях — она уже не могла, как раньше, контролировать общество, особенно в области культуры. В возведенной ею стене появлялись трещины и бреши, которые не в состоянии были залатать цензоры, и через них испанское общество впитывало новые идеи, книги, философские течения, художественные ценности и формы, прежде запрещенные как крамола. Ни один город не воспользовался этим началом либерализации больше и лучше, чем Барселона, и ни один не пережил такого идейного и творческого подъема. Барселона стала культурной столицей Испании: именно там надо было находиться, чтобы вдохнуть разлитое в воздухе ожидание свободы. В каком-то смысле она стала также культурной столицей Латинской Америки: многие художники, писатели, издатели и артисты из латиноамериканских стран либо обосновались в Барселоне, либо часто туда приезжали: именно там в наши времена надо было жить, если вы хотели быть писателем, поэтом, художником или композитором. Для меня это были незабываемые годы товарищества, дружбы, новых сюжетов, плодотворного труда. Подобно Парижу, Барселона была «Вавилонской башней», космополитичным, общечеловеческим городом, где жизнь и работа вдохновляли и где, впервые с времен Гражданской войны, сложилось братство испанских и латиноамериканских писателей, осознавших свою принадлежность к одной традиции, объединенных общим делом и уверенностью: конец диктатуры близится, и в демократической Испании культура будет играть главную роль.
Хотя не все ожидания полностью оправдались, переход Испании от диктатуры к демократии — один из образцовых для нашей эпохи примеров того, что, когда торжествуют здравый смысл и разум, а политические противники оставляют распри ради общего блага, результат может быть таким же чудесным, как на страницах романа в стиле «магического реализма». Путь Испании от авторитаризма к свободе, от отсталости к процветанию, от экономических контрастов и неравенства, свойственных третьему миру, к «обществу среднего класса», ее интеграция в Европу и быстрое восприятие демократической культуры поразили весь мир и ускорили модернизацию страны. Для меня было крайне волнующе и поучительно наблюдать за всем этим вблизи, а порой и изнутри. Я горячо надеюсь, что национализм — неизлечимый недуг современного мира, да и самой Испании — не разрушит эту прекрасную сказку.
Я презираю национализм во всех его формах — провинциальную идеологию (скорее даже религию), близорукую и узколобую. Национализм сокращает интеллектуальные горизонты и таит в глубине этнические и расовые предрассудки, ведь он провозглашает в качестве высшей ценности, нравственной и онтологической привилегии, такое совершенно случайное обстоятельство, как место рождения. Наряду с религией, национализм был причиной самых страшных кровопролитий в истории — таких как две мировые войны или нынешняя бойня на Ближнем Востоке. Именно национализм больше всего способствовал «балканизации» Латинской Америки, залитой кровью в бессмысленных битвах и спорах, растрачивающей астрономические ресурсы на закупку оружия вместо строительства школ, библиотек и больниц.
Не следует смешивать зашоренный национализм и неприятие «чужаков», сеющее семена насилия, с патриотизмом — прекрасным благородным чувством любви к земле, где мы родились, где жили наши предки, где возникли наши первые мечты, к знакомому ландшафту природы, любимых и событий, превращающихся в указатели памяти и защиту от одиночества. Отечество — это не флаги, гимны и непререкаемые речи о безупречных героях, а горстка мест и людей, населяющих наши воспоминания и окрашивающие их меланхолией, теплым ощущением того, что, где бы вы ни были, у вас всегда есть дом, куда можно вернуться.
Перу для меня — это Арекипа, где я родился, но никогда не жил, город, который я узнал из ностальгических воспоминаний матери, дедушки с бабушкой, тетушек, ведь весь мой семейный клан, как и положено настоящим Arequepeños, носил Белый город с собой в своих бесконечных скитаниях. Это Пьюра, город посреди пустыни с мескитовыми деревьями и многострадальными осликами, которых во времена моей молодости пьюранцы с грустноватым изяществом называли «вторые ноги», где я узнал, что детей не приносят аисты, а делают парочки, занимаясь ужасными вещами, которые церковь считает смертным грехом. Это школа Сан-Мигель и театр «Варьете», где я впервые увидел на сцене написанную мной коротенькую пьесу. Это угол улиц Диего Ферре и Колумба в районе Мирафлорес в Лиме — мы называли его «счастливым кварталом», — где я сменил короткие штаны на брюки, выкурил первую сигарету, научился танцевать, влюбляться и открывать сердце девушкам. Это пыльная, пульсирующая энергией редакция газеты La Crónica, где в шестнадцать лет я впервые заступил на пост с оружием — профессией журналиста, которая, наряду с литературой, стала моим ремеслом на всю жизнь, и, вместе с книгами, позволила мне жить полнее, лучше узнать мир, встречаться с мужчинами и женщинами из всех стран и всех классов, прекрасными, хорошими, плохими и ужасными людьми. Это Военная академия имени Леонсио Прадо, где я узнал, что Перу — не маленькая «крепость» среднего класса, где я жил до сих пор в затворничестве и безопасности, а громадная, древняя, озлобленная страна, где царит неравенство, сотрясаемая со всех сторон социальными бурями. Это подпольные ячейки организации «Кахиде», где мы — горстка студентов Университета Сан-Маркос — готовили мировую революцию. И еще Перу — это мои друзья по Движению за свободу, с которыми мы три года, среди терактов, отключений электричества и политических убийств, защищали демократию и культуру свободы.
Перу — это Патрисия, моя кузина с вздернутым носиком и неукротимым нравом, на которой мне посчастливилось жениться сорок пять лет назад: она до сих пор выносит мании, неврозы и вспышки раздражения, помогающие мне писать. Без нее моя жизнь уже давно распалась бы в яростном вихре, а Альваро, Гонсало, Моргана и шестеро внуков, продлевающие нашу жизнь и придающие ей радость, не появились бы на свет. Она делает все, и все делает хорошо. Она решает проблемы, управляет хозяйством, наводит порядок среди хаоса, держит на расстоянии журналистов и назойливых людей, защищает мое время, принимает решения о встречах и поездках, пакует и распаковывает чемоданы, она столь великодушна, что даже упреки превращает в величайший комплимент: «Марио, ты только писать и умеешь!»
Но вернемся к литературе. Райское детство для меня не книжный миф, а реальность, в которой я жил и которой наслаждался в большом семейном доме с тремя верандами в Кочабамбе, где вместе с двоюродными братьями и школьными друзьями я разыгрывал приключения Тарзана и героев Сальгари, и в префектуре Пьюра, где на чердаках гнездились летучие мыши — безмолвные тени, наполнявшие звездные ночи этой жаркой земли загадкой. В те годы писать было игрой, которой восхищалась моя семья, очаровательным занятием, дарившим мне аплодисменты, мне — внуку, племяннику, сыну-безотцовщине, ведь мой папа умер и отправился на небеса. Он был высоким красивым мужчиной в военно-морской форме, и его фото стояли у меня на ночном столике: перед сном я молился этим снимкам, а потом целовал их. Как-то утром в Пьюре — от этого я, кажется, до сих пор не оправился — мать призналась мне, что этот сеньор на самом деле жив. И в тот самый день мы должны были отправиться в Лиму жить вместе с ним. Мне было одиннадцать, и с этого момента все изменилось. Я утратил невинность и познал одиночество, власть, взрослую жизнь, страх. Моим спасением были книги, хорошие книги, я укрывался в мирах, где жизнь была прекрасна, насыщенна, где одно приключение следовало за другим, где я снова обретал свободу и счастье. И еще я писал — втайне, словно предаваясь некоему неописуемому пороку, запретной страсти. Литература перестала быть игрой. Она превратилась в способ противостоять обстоятельствам, протест, бунт, избавление от нестерпимого, смысл жизни. С тех пор и по сей день всякий раз, когда я впадал в уныние и подавленность, оказывался на грани отчаянья, я окунался с головой в свой труд рассказчика, и он давал мне свет в конце тоннеля, становился той доской, на которой потерпевший кораблекрушение доплывает до берега.
Хотя это труднейшее дело, доводящее до кровавого пота, и заставляющее временами — как любого писателя — чувствовать себя на грани паралича, засухи воображения, ничто не давало мне такого наслаждения жизнью, как месяцы и годы кропотливого «строительства» истории с самых неопределенных истоков, с кладовой образов из памяти о прожитой жизни, превращающейся в беспокойство, энтузиазм, грезы наяву, прорастающие в проект, в решение попытаться сделать из взбаламученного облака фантомов связный рассказ. «Писательство — это образ жизни», — сказал Флобер. Да, именно образ жизни, жизни с иллюзиями, радостью, с огнем, рассыпающимся искрами у вас в голове, борьбой с неуловимыми словами, пока их удается приручить, жизнь, в которой вы крадетесь по огромному миру, словно охотник за желанной добычей, чтобы насытить нарождающуюся мысль и укротить неутолимый аппетит каждой истории, которая, подрастая, желает пожрать все остальные истории. Когда еще только чувствуешь головокружение, вынашивая роман, и потом, когда он обретает форму и словно начинает жить своей жизнью, — персонажи уже движутся, действуют, думают, чувствуют, требуют к себе уважения и внимания, и им больше невозможно навязывать поступки, или лишать их свободы воли, не убив их, не лишив историю убедительной силы — эти ощущения и сегодня продолжают зачаровывать меня, как в первый раз. Они настолько полны и ошеломляющи словно ты занимаешься любовью с любимой женщиной днями, неделями, месяцами напролет.
Говоря о литературе, я уделил очень много внимания роману и очень мало — драматургии, еще одной из ее главных форм. Это, конечно, крайне несправедливо. Драма — моя первая любовь, с тех самых пор, когда в юности я увидел в Театре Сегуры в Лиме «Смерть коммивояжера» Артура Миллера, спектакль, переполнивший меня эмоциями, после которого я лихорадочно начал писать пьесу об инках. Если бы в Лиме 50-х было театральное движение, я стал бы драматургом, а не романистом. Но его не было, и это все больше подталкивало меня к нарративным формам. Тем не менее моя любовь к театру не угасла: она дремала, свернувшись калачиком в тени романов, напоминая о себе соблазном и ностальгией всякий раз, когда я видел потрясший меня спектакль. В конце 70-х не дававшая мне покоя память о столетней двоюродной бабке Мамаэ, в последние годы жизни прервавшей любую связь с окружающей реальностью, чтобы найти убежище в воспоминаниях и фантазиях, подтолкнула меня к тому, чтобы написать эту историю. И я сразу же почувствовал, что это должна быть история для театра, что только на сцене можно будет передать яркость и блеск чередующихся грез. Я писал эту пьесу с робким волнением начинающего, и настолько наслаждался, увидев ее на сцене с Нормой Алеандро в главной роли, что с тех пор несколько раз возвращался к этому жанру в перерывах между романами и рассказами. Следует также добавить: я никогда не думал, что в семьдесят лет сам поднимусь (спотыкаясь, конечно) на сцену в качестве актера. Эта безумная авантюра позволила мне впервые на собственной шкуре испытать то чудо, которым становится для всю жизнь писавшего выдуманные истории человека возможность воплотить на несколько часов выдуманный персонаж, пожить выдуманной жизнью перед зрителями. Я никогда не смогу сполна выразить благодарность моим друзьям — режиссеру Хуану Олле и актрисе Айтане Санчес-Гихон — за то, что они убедили меня разделить с ними эти фантастические впечатления (несмотря на панический страх, который я при этом испытал).
Литература — это ложное изображение жизни, но тем не менее она помогает нам лучше понять жизнь, ориентироваться в лабиринте, в котором мы рождаемся, бродим и умираем. Она возмещает те неудачи и огорчения, что приносит нам реальная жизнь, благодаря литературе мы можем хотя бы частично расшифровать тайнопись, которой представляется наше существование подавляющему большинству людей — прежде всего тем, кто испытывает сомнения чаще, чем уверенность, и признает, что такие вещи как трансцедентность, личное и коллективное предназначение, душа, смысл или бессмысленность истории, шараханье рационального знания из стороны в сторону, ставят нас в тупик.
Меня всегда завораживала мысль о том состоянии неопределенности, в котором наши предки — еще мало отличавшиеся от животных, ведь язык, позволяющий им общаться друг с другом, только-только появился — в пещерах, у костров, по ночам, дышащим угрозой в виде молний, раскатов грома, рычания животных — начали придумывать и рассказывать истории. Это был решающий момент в нашей судьбе, поскольку с этих первобытных существ, собиравшихся в кружки, зачарованных голосом и фантазией сказителя, началась цивилизация — долгий путь, постепенно превративший нас в людей, что привел нас к идее самостоятельности личности, затем оторвал индивида от племени, породил науку, искусство, закон, свободу, побудил нас добраться до самых глубин в исследовании природы, человеческого тела, космоса, полететь к звездам. Эти сказки, басни, мифы, легенды, впервые прозвучавшие словно новая музыка перед слушателями, напуганными загадками и угрозами мира, где все было неизведанно и опасно, должно быть подействовали как прохладная вода, как тихий водоем на души тех, кто всегда был настороже, для кого существование состояло из еды, поисков укрытия от стихии, убийства и совокупления. С того времени, как они, вдохновленные сказителями, начали коллективно мечтать и делиться своими мечтами, они уже не были привязаны к «беличьему колесу» простого выживания, вырвались из водоворота отупляющих забот. Их жизнь стала мечтой, удовольствием, фантазией и революционным преодолением рамок, изменением, совершенствованием, борьбой за удовлетворение желаний и амбиций, пробуждавших в них воображаемую жизнь и любознательность, стремление разгадать окружавшие их загадки.
Этот непрерывный процесс обогатило появление письменности, когда рассказы стало возможно не только услышать, но и прочесть — они превратились в литературу, а значит, обрели вечность. Поэтому необходимо повторять вновь и вновь, пока новые поколения этого не усвоят: литература — больше, чем развлечение, больше, чем упражнение для ума, обостряющее восприимчивость и пробуждающее критический дух. Она абсолютно необходима для самого существования цивилизации, она обновляет и сохраняет в нас лучшие черты человека. Необходима для того, чтобы мы вновь не окунулись в дикость изоляции, и жизнь не свелась к прагматизму специалистов, способных проникнуть вглубь вещей, но оставляющих без внимания то, что окружает эти вещи, предшествует им и продолжает их. Чтобы мы, изобретающие машины, которые должны нам служить, не превратились сами в слуг и рабов машин. Она необходима потому, что мир без литературы был бы миром без стремлений, идеалов и непослушания, миром автоматов, лишенных того, что делает человека человеком — способности поставить себя на место другого, других, вылепленной из глины наших мечтаний.
От пещеры до небоскреба, от дубины к оружию массового поражения, от монотонности племенной жизни к эпохе глобализации литература — плод воображения — преумножала человеческий опыт, не позволяя нам поддаться летаргии, обреченности, уйти в себя. Ничто так не сеяло неуспокоенность, не будоражило наше воображение и желания, как «лживая» жизнь, которую мы, благодаря литературе, прибавляем к той, что у нас есть, и можем стать героями невероятных приключений, великих страстей, которые никогда не даст нам реальность. Литература — ложь, но она становится правдой в нас, читателях, преобразованных, зараженных стремлениями и благодаря воображению постоянно подвергающих сомнению серую реальность. Литература превращается в колдовство, когда дает нам надежду получить то, чего у нас нет, стать тем, кем мы не являемся, вести то невозможное существование, в котором мы, как языческие боги, чувствуем себя смертными и бессмертными одновременно, когда закладывает в нас дух нонконформизма и бунта, лежащий в основе всех подвигов, способствовавших снижению насилия в отношениях между людьми. Снижению, но не полному устранению, потому что наша история, к счастью, всегда будет оставаться неоконченной. Поэтому нам надо продолжать мечтать, читать и писать — ведь это самый эффективный из найденных нами способов облегчить наше смертное существование, победить коррозию времени и сделать невозможное возможным.
Стокгольм, 7 декабря 2010 года

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.