
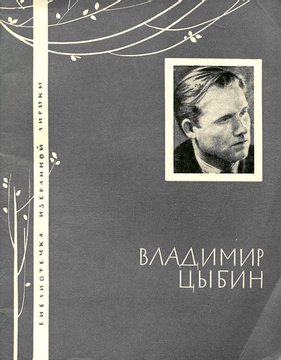
* * *
В больнице умер инвалид,
и три солдатские медали
за то, что не был он убит,
теперь в ногах его лежали.
Чист пиджачишко, и чиста
на нем рубашка, галстук – криво.
Так обрядила медсестра
его для смерти суетливо.
Под плач привычный двух старух
прощался этот мир с солдатом,
и тополиный влажный пух
накрыл его,
как маскхалатом.
Один. Давно в земле жена.
А дети? Кто их знает – дети.
Она еще жива, война,
с тех пор так и идет на свете.
Так и не смог никто из нас
припомнить, воскресить слезою,
что он в прощальный, строгий час
любил забытою душою...
ЕСЛИ
Был мой каждый день, как именины.
Если пил, то не скрывал, что пью.
Черные, прощальные рябины
остудили молодость мою.
Жить хотел за все, что есть, в ответе:
груз какой! – и падал на виду.
Все же ни в какие перевертни –
как там ни прельщают – не пойду.
И, горя от вспышки и до вспышки,
отрицаю болью сердца всей
маленькие, бойкие делишки
вспуганных обидою людей.
Всей державной волей сердца властной
отвечаю певчей бормоте,
прямота сурова и глыбаста –
Русь всегда стоит на прямоте.
На каком тяжелом перегоне
зноем мои вены перервут?
Подставляю жесткие ладони
яблоням – пусть яблоки кладут.
Я калил когда-то жаром, жаром –
я себя хотел перекалить,
а меня жалели жалом, жалом:
там, где больно, – мудрости там быть.
Черную рябинную остуду
отвожу от сердца, словно стыд.
Страшно,
если родину забуду,
страшно,
если родиной забыт.
ПОЕЗДА
В степи на июльской жаре кипяченой,
мальчишка, махал поездам я кепчонкой.
Под Млечным Путем, вдоль притихшей России
казенных людей поезда увозили.
Как эти вагоны,
цепочкой по зною
бежали избушки села предо мною.
Всю ночь я летел по полям, по озимым
в избе, на печи
под соломенным дымом.
Под Млечным Путем, вдоль притихшей России
я каждой березе кивал и осине.
И мне, улетавшему в дальние дали,
другие мальчишки кепчонкой махали...
* * *
Слышу я душу земли
вместе с беззвучною дрожью...
Росы сухие прошли
перегоревшею рожью...
В белой, библейской пыли,
жаждой приникнув к бездождью,
вижу я, вижу вдали:
тихо к лесному изножью
струи прохлады стекли.
И – между правдой и ложью
слышу я душу земли...
* * *
Я знаю – безвестно и ныне,
давно не засеяно льном
то поле на русской равнине –
нет места живого на нем.
Какой еще новой ордою
испытано будет на страх?
Давно уж железо чужое
истлело в земле, словно прах.
Несильной травой чистотелом
оно заросло, как и встарь.
Но в сердце отдастся прострелом:
за ним – непочатая даль.
И старятся тихо, без славы
от марта до долгой зимы
его молчаливые травы
у теплого тела земли.
Век поля – век кроткий,
век вдовий,
но травы сойдут – и в упор
пахнет, словно тайною волей,
метелицей русский простор...
* * *
Жду снегов, а их все нету,
спелых, жгущих на лету,
забываю осень эту,
словно женщину не ту...
Забываю цвет я гневный
увяданья в холода,
словно голос той, забвенной,
безотзывный навсегда.
Забываю – не забота,
забываю, отгоря,
след гусиного отлета
вдаль над прахом сентября.
Прах моей тоски сердечной
забываю столько лет.
Жду погоды новой, млечной,
жду снегов,
а их все нет...
* * *
Где бежит тропа притруской
по лесу невесть куда,
птица времени – кукушка
стережет мои года.
В застоялой, серой рани,
задымившей по пруду,
я о них у кукованья
не спрошу – и так пройду.
Счесть с чего года ты эти
не желаешь, сумасброд?
Слышишь, как их на рассвете
всем кукушка раздает?..
НАБРОСОК
На поле ни тропинки, ни следа,
и оттого мне вслушиваться странно,
как медленно слагаются снега
в созвучья пробужденного бурана.
Я сам под время встал, как под обвал
под тяжестью его не слышу муки,
и этим снегопадом обвязал
все версты,
куда брошены разлуки.
Мне кажется – спокойно, не спеша,
не ведая ни страха, ни гордыни,
стоит напротив вечности душа,
не опознав саму себя средь стыни.
А там, вдали, где снеговая мгла,
даль забежала в облачные щелки,
и крылья разметенные орла
застыли,
будто часовые стрелки...
МОНОЛОГ
Я – вечность. Нет меня. И я – жива.
Бездвижно мчась,
и тишь я и боренье.
Во мне без нежной дрожи вещества
невидимо отвердевает время.
В бессоннице моей окончив путь,
тысячелетья умерли, истлели.
Не сплю. А мне б запечатлеться в теле
и смертной стать,
чтоб хоть на миг заснуть.
* * *
Внезапным неведомым зовом
зачем-то меня завлекла
на холод в овраге сосновом
просторная зыбкая мгла.
Здесь хвойная прохладь, здесь сыро,
отсюда не видно земли,
как будто остались от мира
лишь сосны да звезды вдали.
Отсюда – навеки безвестный –
со страхом, с какой-то виной
гляжу, как из гибельной бездны,
на мир недоступный, сквозной.
Оттуда, на страх поколеньям,
придущим когда-нибудь в мир,
налитая страшным каленьем,
к нам мчится
звезда Альтаир.
И вестник космической смуты
возникнет, наш мир пепеля.
В неведенье этой минуты
историей дышит земля.
* * *
Начало звезд – скончанье дня,
предзимней грустью сердце сводит:
в потоках времени
меня
все больше в прошлое отводит.
Отходит все – и явь, и сон,
становится мечтой, хворобой,
и страшно мне, что усыплен
любовью я, как несвободой.
И мир, в мою вошедший грудь,
подъятый дерзко мною с ложа,
напрягся горестно вздохнуть,
и боль на счастье так похожа.
* * *
Сто судеб было у меня –
в какой успех? В какой пропасть?
Так выбирали лишь коня
на ярмарке – и стать, и масть.
Я в них попал, как рыба в сеть:
сменялись то восторг, то жуть.
Ах, если б мне их разглядеть,
в глаза им зорко заглянуть!
Тогда бы не было потерь
и дней, где властвует аврал.
Не лгал бы сам себе теперь,
что ничего я не терял.
Сто судеб – гневных сто коней
летят и падают вдали.
Сто судеб – тяжких сто камней
на плечи грузом мне легли.
Сто судеб, как сто углей, жгут.
В разрыв зари лечу, назад,
где перемешан зной и гуд,
вздох встречным ветром пережат.
Сто судеб... Все я взял с собой –
а где ж та горькая, одна
единственная,
из какой
тишь сотворения слышна?..

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.