Попова-Бондаренко Ирина
О книге Юрия Каплана

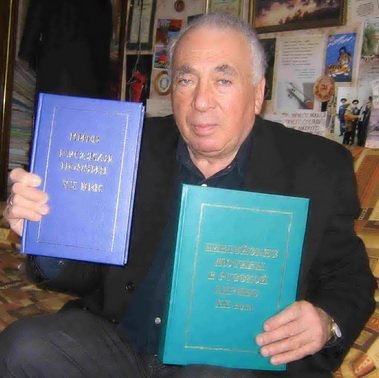
Юрий КАПЛАН. Ночной сторож.
Стихи
Мастерства не замечаешь. В особенности это касается поэзии. Каплан, как сказано в библиографической справке, «технарь» по образованию, что и без справки чувствуется по той уверенности, с какой он обращается с миром вещей и механизмов, по тому, какие точные и уверенные метафоры позволяет себе. Его стихи – по-мужски надежны, «сработаны». В них чувствуется знание и уверенность человека мастерового. Каплановская муза не шарахается испуганно в сторону от изобретений и новейших технологий, но и не кокетничает с ними в модуляциях вроде «надо ж, до чего дошел прогресс!». Она определяет им в мире довольно скромное, вторичное место. Автор знает, о чем пишет: волны, как им и положено, образуют «серебряную рябь прибоя», а не «падают стремительным домкратом». «Технические» образы, которыми невольно и привычно полнится наш городской лексикон, здесь крепко стоят на ногах, обнаруживая скрытый техно-поэтизм (автор знаком с ними не понаслышке). Они корректно вписаны в художественный мир, неожиданно подсвечивая его изнутри, направляя воображение по несколько непривычным тропам, и – странно! – вызывают доверие.
И с тьмой небытия сливаясь постепенно,
Сам становлюсь темней по мере роста тьмы.
Как старый осокорь, как прутики антенны,
Как нижняя ступень, как выступы стены.
Или:
В первый день нашей первой весны
Все пространства трущоб зазеркальных
Нервной дрожью трансмиссий вязальных
Были попросту потрясены.
Точность и уместность «техницизмов» не заслоняет главного – темы боли и памяти. Разной – любовной, отцовской, народной.
Занят бухгалтер проблемой квартальной,
Менеджер занят заботой конкретной,
Им не по нраву мой мир виртуальный,
Мир неподдельной любви безответной.
Или:
Мое зеленоглазое дитя,
дунайской дельты рукава спустя
меня опять одолевают страхи.
И снова – сам себе коварный враг –
Я путаюсь в потертых рукавах
Печали. Как в смирительной рубахе.
У критиков принято говорить: «стихи такого-то подкупают своей искренностью (варианты: теплотой, открытостью и т.д.)». Строки каплановских стихов бывают беспощадны, хотя в них нет того, что называется «обличительным пафосом». В них – правда жизни, истории, человеческой души:
Нам с мамой достался кусочек нар
В переполненном товарном вагоне,
А тех, кто остался на грязном перроне,
Ждал Бабий Яр.
Бомбежки. Пожары. Вопли: «Ложись».
Так и ехали сквозь войну,
На всю оставшуюся жизнь
Увозя свою вину.
Конечно, Бабий Яр можно отодвинуть вглубь исключительно еврейской истории. Но частных историй не бывает. История меж-национальна, над-национальна. Она есть время единственной, неповторимой и почти незаметной человеческой жизни, спроецированной на заметный политический видеоряд. И в этом смысле Бабий Яр – история Украины, наша история. Шрамы этой общей истории проступают и в следующих строках:
Родимая мета в моей нерадивой судьбе.
Железная формула будней, мытарств и метаний:
«Не делай другому, чего не желаешь себе».
А все остальное в учении лишь комментарий.
На дыбе, на дне, на кресте, на крючке КГБ,
На гребне успеха и на обороте медали –
«Не делай другому, чего не желаешь себе».
А все остальное в учении – лишь комментарий.
Точные и горькие слова. Горечью правды пропитано само восприятие – и приятие! – жизни, ее циклов, законов, ее скрытого, но неостановимого течения. Но здесь нет надрыва. Горечь – необходимая и неотменимая «приправа» жизни. Такая же, как соль. Соль – смысл бытия, а горечь – осмысление смысла, его оценка, философская рефлексия. Знание правды о своей малой жизни и личной судьбе переходит в новое качество, когда проецируется на «жизнь всех людей».
Ручей родниковый ко мне не питает доверья,
Я взгляд равнодушный «павлиньего глаза» ловлю.
Не любят меня ни цветы, ни кусты, ни деревья.
А я их люблю.
……………………………………………………..
Торопят меня ежедневно прожилки тропинок,
А я и мгновение краткое не тороплю.
Ни камень не любит меня, ни подзол, ни суглинок.
А я их люблю.
Тыняюсь по свету с любовью своей безответной
И чушь несусветную в горьком восторге мелю.
Не любят меня ни светила, ни волны, ни ветры.
Но я их люблю.
Как переходит мягкое и как бы слегка растерянное «а я их люблю», в позиционно оптимистичное «но я их люблю»! При полном («ясном», как сказал бы Камю) осознании безответности душевной отдачи – просто человек не может иначе. Не знаю, философична ли поэзия Каплана. По крайней мере, она мудра. Слегка иронична, но это только придает ей внутреннюю силу и твердость, человеческую – достойную – сопротивляемость, забвению, злу, корысти, суете. Наверное, не случайно тема времени на все лады варьируется автором – от светского безделья (стихотворение «Тонет оса в апельсиновом соке») до вечности («Тьма бытия страшней, чем тьма небытия», «Поэт угрюмо строчку правит», «То прозябаю в бизнесе топорном», «Не видим неба из-под крыш», «Расправы времени – ход, лёт…» и др.).
Народная память (так и хочется повториться, сказав «память истории») прорастает и чернобыльскими мотивами. Наверное, только украинский поэт, со всей страной переживший эту трагедию, может так органично, так неспекулятивно, с полным правом причастности, сказать:
Закат перекрасил тучу и позолотил хрущобы,
Я тоже беспечно счастлив, хоть мне катастрофа светит,
Ведь только я понимаю: звезда Полынь – не Чернобыль,
Это звезда двойная единственных глаз на свете…
Чувствуется, что Каплан – киевский поэт. Он любуется городской панорамой, старыми улочками Киева, его дворами, где взросл ому можно посидеть на качелях, его мало обжитым новостроем… Трогательно – лукавой обстоятельностью подмечает автор детали городского бытия:
Начало велеречиво: едва прикрываю вежды,
Рисует воображенье петляющую игриво
Тропинку вдоль новорожденного проспекта между
Трамвайными рельсами и невысоким обрывом
Душа во вчера, а не в завтра просится на гастроли,
Пусть там выхлопными газами затравлен ретивый ветер,
Но так как дома немного отодвинуты от магистрали,
Жители собирают полевые цветы в кювете…
Масштабность художественному миру поэта придает не знающая пределов душа, причастная тайнам смертей и рождений, единения всех без исключения людей («человецы бо суть»). Так связуются старокиевская возвышеность Хоревица и библейский Хорив:
Что видел Бог с горы Хорив,
Такое имя князю выбрав?
Ведь у божественных верлибров
Случайных не бывает рифм.
Рожденная от двух начал,
Раздваиваясь без надрыва,
От Хоревицы до Хорива
Душа летает по ночам.
Библейские – вечные – нормы и ценности вообще задают книге тон. Автор изначально избирает прием скрытой полемики с Каином, который на испытующий вопрос Бога: «Где Авель, брат твой?» ответил уклончиво, но дерзко – «разве я сторож брату моему?». Поэт, напротив, чувствует, что именно он за все в ответе – за то, что совершал или не совершал, что произошло с его молчаливого согласия, невмешательства, попустительства. Пришло время каждому не только отвечать за вольные или невольные прегрешения, но и действовать:
Престижем служб не дорожа,
Наскучив в собственном дому,
Уйти в ночные сторожа.
Я сторож брату моему.
Поближе к лесу выбрать пост,
Смотреть, смотреть в ночную тьму
И повторять при свете звезд:
Я сторож брату моему.
Книга серьезная, человечная, сдержанная. Достойная книга.
Ирина ПОПОВА-БОНДАРЕНКО, ДОНЕЦК

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.