
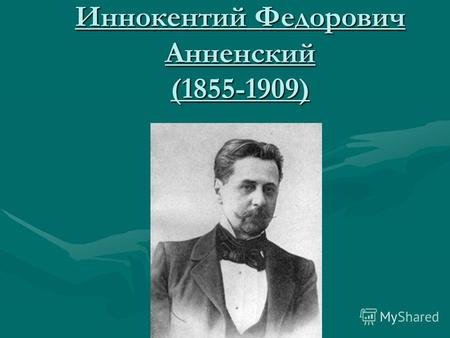
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
Иннокентий Анненский говорил: «Поэзия лишь намекает на то, что недоступно выражению. Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что она дал нам почувствовать несказанное».
Рассказывает поэт Александр Кушнер:
«Иннокентий Анненский – один из самых загадочных и таинственных поэтов. Можно сказать, что в начале ХХ века у нас было два великих поэта – Александр Блок и Иннокентий Анненский. Но Анненский был никому не известен при жизни. Слава к нему пришла посмертно. При жизни он издал только одну книгу – «Тихие песни» - в 1904 году под псевдонимом «Ник. Т-о». Между тем, наверное, без него не было бы ни Ахматовой, ни Мандельштама. Он был важен для Пастернака, Цветаевой и Георгия Иванова. Его читаешь, и ощущение, будто эти стихи написаны сегодня, так они тебе нужны.
Все стихи Анненского написаны в последние 9 - 10 лет его жизни. А ведь он родился в 1855 году. Он писал стихи и будучи молодым, но потом их уничтожил. Они ему не нравились. А занимался всю жизнь совсем другим. Он родился в Сибири, в Омске. Затем семья переехала в Петербург. Закончив Университет, стал директором Николаевской мужской гимназии в Царском Селе. Преподавал древнегреческий и латынь. Можно сказать, положил всю свою жизнь на перевод трагедий Еврипида. Также переводил современных ему французских поэтов. Писал статьи на педагогические темы. Среди выпускников его гимназии были Николай Гумилев, Николай Пунин – муж Ахматовой. Кстати, Пунин вспоминал, что его отец говорил ему: «Странный у вас директор гимназии: едем мы с ним в Петербург, подъезжаем к городу, а он говорит – смотрите, какое ожерелье огней», - директору гимназии полагалось быть более сдержанным.
У Анненского очень много стихов о вокзале.
ТОСКА ВОКЗАЛА
О канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала...
Полумёртвые мухи
На забитом киоске,
На пролитой известке
Слепы, жадны и глухи.
Флаг линяло-зелёный,
Пара белые взрывы,
И трубы отдалённой
Без отзыва призывы.
И эмблема разлуки
В обманувшем свиданье -
Кондуктор однорукий
У часов в ожиданье...
Есть ли что-нибудь нудней,
Чем недвижная точка,
Чем дрожанье полудней
Над дремотой листочка...
Что-нибудь, но не это...
Подползай - ты обязан;
Как ты жарок, измазан,
Все равно - ты не это!
Уничтожиться, канув
В этот омут безликий,
Прямо в одурь диванов,
В полосатые тики!..
Я не знаю лучших стихов о вокзале. Когда я вспоминаю их, я еще вспоминаю французскую живопись, того же Моне с его «Вокзалом Сен-Лазар». Но это стихи не о вокзале, они о любви. «И эмблема разлуки в обманувшем свиданье» - вот почему человеку так тяжко и горько.
В ВАГОНЕ
Довольно дел, довольно слов,
Побудем молча, без улыбок,
Снежит из низких облаков,
А горний свет уныл и зыбок.
В непостижимой им борьбе
Мятутся черные ракиты.
"До завтра,- говорю тебе,-
Сегодня мы с тобою квиты".
Хочу, не грезя, не моля,
Пускай безмерно виноватый,
Глядеть на белые поля
Через стекло с налипшей ватой.
А ты красуйся, ты - гори...
Ты уверяй, что ты простила,
Гори полоской той зари,
Вокруг которой все застыло.
И это стихи о любви. Как много в них сказано. Это стихи о любовной ссоре и примирении. Как замечательно введена прямая речь "До завтра,- говорю тебе,- сегодня мы с тобою квиты". Прозаику понадобилось бы несколько страниц, чтобы написать такой рассказ. Еще люблю эти стихи, потому что их можно прижать к сердцу, потому что их можно произнести от своего имени, потому что каждый из нас знает такие ситуации.
Стихи Анненского тихие. Формулировок нет, он их избегал, афоризмов тоже. Но стихотворение «Петербург» несколько другое.
ПЕТЕРБУРГ
Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале,-
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отрава бесплодных хотений.
Анненский любит Петербург и вдруг так страшно о нем пишет. Думаю, что на этих стихах сказались его любовь и преклонение перед Достоевским. Это Достоевский считал, что этот город склубился из тумана… Петербургский миф, петербургская поэзия, петербургская слава и петербургский ужас – они неразрывны.
Поэт никогда не хотел, чтобы говорили о его личной жизни, он был, что называется, застегнут на все пуговицы. Жизнь его была печальна. Он был женат на женщине, которая была значительно его старше. В студенческие годы влюбился. А затем у него появилась тайная любовь… Всё это понятно по его стихам. Любовь была несчастная, невоплотившаяся - он был влюблен в жену своего пасынка. Она писала Розанову: «Он не мог переступить этой черты».
Зал,
Я нежное что-то сказал,
Стали прощаться,
Возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
Склеены...
Оба мы были рассеянны,
Оба такие холодные...
Мы...
Пальцы ее в черной митенке
Тоже холодные...
"Ну, прощай до зимы,
Только не той, и не другой,
И не еще - после другой,
Я ж, дорогой,
Ведь не свободная..."
"Знаю, что ты - в застенке..."
После она
Плакала тихо у стенки,
И стала бумажно - бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы еще?
Губы хотели любить горячо,
А на ветру
Лишь улыбались тоскливо..
Что-то в них было застыло
Даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего
Она некрасива...
Ну, слава богу, пускают садиться...
Мокрым платком осушая лицо,
Мне отдала она это кольцо...
Слиплись еще раз холодные лица,
Как в забытьи, -
Поезд еще стоял -
Я убежал...
Но этого быть не может.
Это - подлог...
День или год и уж дожит,
Иль, не дожив, изнемог...
Этого быть не может...
Конечно, она была красива, но каждый знает, что когда женщина плачет, когда она несчастна, самая красивая будет некрасивой в этот момент. Он был абсолютно точен, и сердце у него разрывается от любви к ней.
В стихах Анненского появились вещи – это было новым для русской поэзии. Символисты вообще их не замечали, для них существовали только небесные сферы.
Лишь шарманку старую знобит,
И она в закатном мленьи мая
Все никак не смелет злых обид,
Цепкий вал кружа и нажимая…
Или вот стихотворение «Будильник»:
Обручена рассвету
Печаль ее рулад...
Как я игрушку эту
Не слушать был бы рад
Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз,
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ,
О чьем-то недоборе
Косноязычный бред...
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет…
Анненский вставал по будильнику - это так похоже на нас. Он ведь всю жизнь служил в гимназии. У него было 56 часов в неделю – немыслимое дело! Он нуждался, надо было кормить семью.
Стихи Иннокентия Анненского кажутся проточной водой, с рябью, с зыбью. Они вспененные, как неровная поверхность. Эту вопросительную интонацию многие поэты игнорируют, не догадываясь, что она у нас есть. У них все идет как безопеляционное утверждение. Анненский сомневался, он был человек мыслящий, считающий себя во многом виноватым. И эта вопросительная интонация преображала его стихи. Он владел самым трудным в поэтическом искусстве – короткой строкой, коротким размером.
Полюбил бы я зиму,
Да обуза тяжка...
От нее даже дыму
Не уйти в облака.
Как вдох и выдох. Такие стихи приходят по наитию, их нельзя придумать.
Почему он так поздно стал писать стихи, только в ХХ веке? Дело, наверное, в том, что бывают эпохи не поэтические, а прозаические. Что такое 80-е – 90-е годы XIX века? Это царство русской прозы. Слава богу, что она у нас была. Толстой, Достоевский, Чехов, Лесков – проза съела поэзию. А в ХХ веке все изменилось. И он успел написать свои стихи. Конечно, он рано умер: внезапно, от разрыва сердца, на царскосельском вокзале. В половине восьмого вечера 30 ноября по старому стилю (13 ноября - по новому) 1909 года возвращался в Царское Село, отпустил извозчика, начал подниматься по ступеням и упал... Анненский боялся внезапной смерти, знал, что у него больное сердце. Говорил, что внезапно умереть, это все равно, что уйти из ресторана, не расплатившись.
Похоронили его в Царском Селе. Было очень много людей, и почти никто из них не знал, что хоронят великого русского поэта. Анненский как будто предвидел свою судьбу. В одном из своих стихотворений он сказал о себе, что живет среди людей, которые не слышат. В 1910 году, через полгода после смерти, вышла его вторая книга - «Кипарисовый ларец» - и имела огромный успех. Ей зачитывались Гумилев, Волошин, Ахматова, даже Маяковский. Анна Ахматова позже напишет:
А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем,
предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул
томленье -
И задохнулся...
Думая об Анненском, понимаешь, что его судьба - это великое утешение для пишущих людей. Сегодняшние дни тоже не созданы для поэзии. Но судьба Иннокентия Анненского подсказывает, что не все так плохо. Все возвращается».

Комментарии 1
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.