Михаил Синельников

Что, казалось бы, от него сейчас осталось? Строчка немолодого Тарковского, оплакивавшего давние наивные времена своих благородных и вольнолюбивых родителей: "Где Надсона чахоточный трехдольник?"...
Когда Ахматова приезжала в Москву, то встречающим ее на вокзале задавала небрежно-пренебрежительный вопрос: "Ну, как, в Москве еще популярен рязанский Надсон?". Она имела в виду Есенина! Но, может быть, это странноватое сравнение, подразумевающее некоторую изначальную неряшливость, для бедного Надсона лестно...
Что сказать еще? Крещение(а крещен был еще его дед!) и столбовое дворянство матери не спасло Надсона от ядовитых юдофобских выпадов.Вероятно, сокративших его жизнь. Но тогда интеллигенция русская ненавидела антисемитизм. И, пожалуй, тому студенчеству даже по душе была некоторая причастность любимого автора к еврейству.
ДАЮ ДАЛЬШЕ ОТРЫВОК ИЗ МОЕЙ ЗАМЕТКИ ДЛЯ РУССКОЙ АНТОЛОГИИ:
"Самые ранние литературные опыты Н. относятся к девяти годам, а в гимназические годы он участвовал в рукописном школьном журнале. Первая публикация состоялась в журнале «Свет» — стихотворение «На заре» (1878). Успех дальнейших публикаций был феноменальным, и уже в 1885 г. вышло первое издание стихотворений Н., удостоенное Пушкинской премии Академии наук. Эта книга была за один год издана трижды. Ранняя смерть поэта еще более способствовала его триумфальной известности, переизданиям (с включением неизданного при жизни) не было конца.
Возникшая в период упадка поэзии слава Н. была неправдоподобно велика. Сам поэт нередко испытывал сомнения в своих силах: «Умерла моя муза!.. Недолго она озаряла мои одинокие дни». Но читающая молодежь требовала именно надсоновских стихов, студентки и курсистки были от них без ума. Дело дошло до того, что революционные организации использовали в качестве основы для шифров стихотворения Н., как заведомо всем знакомые. Революционеров не смущала и религиозная окраска социальной проповеди Н. Целые поколения восприняли его гражданский пафос, его «боль за идеал и слезы о свободе», эту смесь поэтического пессимизма с историческим оптимизмом: «Верь, настанет пора — и погибнет Ваал, И вернется на землю любовь…» Читатели, привыкшие к монотонно-заунывной интонации Н. (наиболее для него характерной) , не замечали ни бедности словаря, ни скудности идей. В ту пору пышно расцвела высокопарность слога и громко зазвучало востребованное именно надсоновской поэтикой слово «аккорд».
Кончина «юноши-поэта» вызвала волну сочувствия. Утрату тяжело переживали юные Мережковский и Бунин, прочувствованный стихотворный некролог посвятил Н. дряхлеющий Полонский, в сущности указавший на главное: «И был тот голос с нервной дрожью, Как голос брата, в час глухой, Подслушан пылкой молодежью И чуткой женскою душой». Имя Н. в общественном сознании встало рядом с именами Лермонтова и Некрасова, как это ни удивительно для нас сегодня. Но Серебряный век покончил с этой сверхъестественной славой, надсоновщина была осмеяна, восторг сменился презрением. В советское время сборники Н. трижды выходили в издании «Библиотеки поэта», печатались в антологиях, но некоторое пренебрежение сохранилось. Пожалуй, в этом проявилось неприятие всего народническо-интеллигентского наследия, той мечтательной беспочвенности, которые так дорого обошлись России. В едкой сатирической повести Зощенко «Мишель Синягин» изображен пустопорожний стихотворец с претензией на страдальчество. Здесь схвачены некие родовые черты, напоминающие знакомый нам прототип. И все-таки Н., искренний и благородный, проживший действительно мученическую жизнь, — далеко не Мишель Синягин. Были у него несомненные поэтические удачи и неожиданные интонационно-ритмические ходы. В своих тягостных раздумиях о будущем Н. оказался дальновиден, и в выводах не раз, и не два совпадал с Константином Леонтьевым. Все это позволяет сделать простой вывод: Н. был одаренным и развивающимся поэтом. Не его вина, что он не родился гением, доставшийся ему небольшой, но истинный природный дар требовал медленного развития, а лет было отпущено так немного. Чтение стихотворений Н. в отрочестве не прошло бесследно и для тех поэтов, которые впоследствии иронизировали над этим реликтом безвременья, стыдились возможного влияния. Как ни странно, нечто общее с Н. есть в поэзии Владимира Соловьева, конечно, более совершенной и стилистически безупречной. Какое-то облагороженное эхо надсоновских звуков иногда возникало и у Сологуба, и у Бальмонта, и даже у Анненского. Если Заболоцкий для своей «Некрасивой девочки» взял тему надсоновской «Дурнушки», то Брюсов в стихотворении «Жизнь» заимствовал и тему, и название, и размер надсоновской «Жизни». Сентиментальное двустишие Н. «А на груди еще дрожат Цветы из моего букета» Ахматовой видоизменяется и неизмеримо улучшается: «Цветы небывшего свиданья» (и это не единственный случай такой переделки). Стихотворение Н. о толпе нашло явный отклик в воронежских стихах Мандельштама: «И Шуберт на воде…» А в знаменитом мандельштамовском «Мне на шею бросается век-волкодав…» осознанно заимствуется завораживающий ритм пресловутого «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат…»"
...Добавлю сейчас, что та же интонация, тот же ритм, простившись с надсоновской заунывностью, воскресают и в самом выдающемся стихотворении Александра Межирова "Коммунисты, вперед!" Содержание - достояние истории, но сам звук бессмертен...
Надсон был подобен дилетанту, невзначай коснувшемуся фортепианных клавиш и вызвавшему мощный и долгий гул.
Семен НАДСОН (1862-1887)
* * *
Жалко стройных кипарисов —
Как они зазеленели!
Для чего, дитя, к их веткам
Привязала ты качели?
Не ломай душистых веток,
Отнеси качель к обрыву,
На акацию густую
И на пыльную оливу:
Там и море будет видно:
Чуть доска твоя качнется,
А оно тебе сквозь зелень
В блеске солнца засмеется,
С белым парусом в тумане,
С белой чайкой, в даль летящей,
С белой пеною, каймою
Вдоль по берегу лежащей.
Ницца,
1885
* * *
Закралась в угол мой тайком,
Мои бумаги раскидала,
Тут росчерк сделала пером,
Там чей-то профиль набросала;
К моим стихам чужой куплет
Приписан беглою рукою,
А бедный, пышный мой букет
Ощипан будто саранчою!..
Разбой, грабеж!.. Я не нашел
На месте ничего, все сбито;
Как будто ливень здесь прошел
Неудержимо и сердито;
Открыты двери на балкон,
Газетный лист с кровати свеян…
О, как ты нагло оскорблен,
Мой мирный труд, и как осмеян!
А только встретимся, — сейчас
Польются звонко извиненья:
«Простите, я была у вас…
Хотела книгу взять для чтенья…
Да трудно что-то и читать:
Жара… брожу почти без чувства…
А вы к себе?.. творить?.. мечтать?..
О, бедный труженик искусства!»
И ждет, склонив лукавый взгляд,
Грозы сурового ответа, —
А на груди еще дрожат
Цветы из моего букета!..
1885
Певица
Затих последний звук и занавесь упала…
О, как мучителен, как страшен был конец, —
Конец! Но вся толпа вокруг еще рыдала,
И всюду слышалось: «О, как она играла!
Как пела в эту ночь, владычица сердец!»
Ее, ее! Явись, сверкни своей красою!
Дай нам увериться, что ты еще жива.
Что это был обман, навеянный тобою,
Красивый вымысел, нарядные слова!..
И снова занавесь взвилась…Перед глазами
Все тот же мрачный храм. Благоговейно ниц
Склонялась тут толпа и хор гремел мольбами,
И таял фимиам душистыми струями,
И арфы плакали под вздохи юных жриц…
Теперь безмолвно все… На сцене сумрак синий,
Рабы, и витязи, и жрицы разошлись,
И только чуждою и грозною святыней
Темнеет в глубине гранитный Озирис…
1885
***
Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнёт
Мне чужд, как и твои ученья.
И если б ты, как встарь, был счастлив и силён,
И если б не был ты унижен целым светом –
Иным стремлением согрет и увлечён,
Я б не пришёл к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнёшь чело своё и тщетно ждёшь спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит как символ отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, –
Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбой.

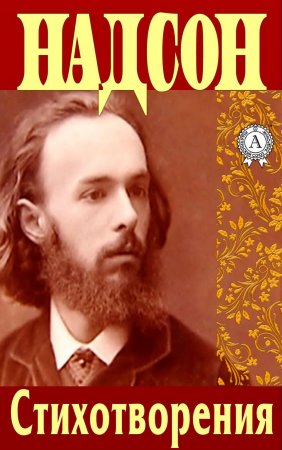
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.