Родилась в 1960 году в г. Львове. После окончания ленинградского медицинского училища работала медсестрой в хирургическом отделении Нестеровской районной больницы Львовской области. В 1985 году по направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте им. М. Горького на заочном отделении. С 1995 по 2000 год проходила воинскую службу в Таджикистане, затем девять лет работала старшим литературным редактором в издательстве «Янтарный сказ» (г. Калининград), сейчас возглавляет редакцию научного журнала Калининградского государственного технического университета. Печаталась в отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда российских и международных конкурсов. Некоторые стихи переведены на болгарский язык. Член Союза писателей России, автор пяти поэтических сборников. Живёт в г. Калининграде.
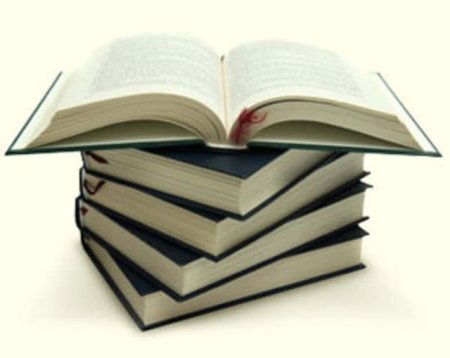
Пародии
Гастрономическая география
Я бы в Томске томился,
В Туруханске струхнул,
На окно бы косился,
Опустившись на стул.
(Александр Кушнер)
Города изучаю
И жую беляши.
Я в Сахаре бы чаю
Насластил от души.
Съем я в Тете тетерю,
Выпью в Були бульон,
Я по атласу сверю
Свой дневной рацион.
В Гусь-Хрустальном румяный
Будет ждать меня гусь,
Я на стул, словно пьяный,
Тяжело опущусь.
Съев в Салайне салаку,
По стихам загрущу,
А пока Титикаку
Я на карте ищу.
Кошмары
Женщины, которых разлюбил,
Мне порою грезятся ночами,
С робкими и верными очами –
Женщины, которых разлюбил.
Женщины, которых разлюбил,
Мне зачем-то изредка звонили…
(Анатолий Аврутин)
Вспоминаю Краснодар и Клин,
Видел всё от края и до края.
Кто не знает – Родина большая,
Как поэт скажу и гражданин.
То Тува, то Коми, так и жил,
Но звонили изредка в печали,
Плакали и даже угрожали
Женщины, которых разлюбил.
Всё виденья, белый свет не мил,
Ну, а мысли – можно ужаснуться:
Вдруг возьмут да вместе соберутся
Женщины, которых разлюбил?
И тогда уже не до утех,
Отвернусь, пожалуй, на арапа.
Лес головок, каждый скажет «папа».
Хватит алиментов ли на всех?
Неожиданность
Благодаря гашишу
Я всё прекрасно вижу:
И Дельвига во фраке, и Гоголя в плаще,
И Царскую деревню,
И Анну-свет-Андревну,
И маленьких каких-то, бесцветных вообще.
(Виктор Брюховецкий)
Как накурюсь гашишу,
Такое, братцы, вижу!
Вон Кушнер в панталонах и в чепчике Эсхил,
Мережко без корсета,
На поприще поэта
Державин, в камилавке *, меня благословил.
А книг моих-то – тыщи,
И не тома – томищи!
Ни критики, ни бури мне не страшны теперь.
Иду уже смелее,
Передо мной, в ливрее,
Сам Александр Сергеич распахивает дверь.
Наутро я в тревоге:
Стою в трусах, без тоги,
Со шприцем и в халате какой-то изувер.
Где фраки и манишки?
Всё странные людишки,
И вывеска огромная «Наркодиспансер».
* Головной убор священника
Рядом с народом
Разведусь я с поэтом, и уйду я в народ,
То бишь к дворнику Федьке...
Буду двор с ним мести по утрам,
Собирать стеклотару…
(Диана Кан)
Эх, знал бы Герцен, что затеял,
А мне теперь вот разгребать.
Народ всю жизнь пахал и сеял,
Кормилец, в общем, так сказать.
Подумалось: ведь нету риска,
С народом и себя найду.
Чтоб рядом быть, ну очень близко,
Я к Федьке-дворнику уйду.
Какие тут уже сомненья,
Я буду с ним гонять чаи,
Ещё читать для просвещенья
Стихи (конечно же, свои).
Читать о городе и роще
(А Федька и всхрапнёт порой).
Оденусь в старое, попроще, –
И ну с утра махать метлой!
Ах, всё ж решусь, задумки пылки,
Ведь можно жить и без строки,
Лишь собирать в мешок бутылки,
Сгребать окурки и плевки.
Захочет Федька похмелиться –
Я тут как тут, аж гордость прёт.
Где Кан? – встревожится столица.
Вестимо, где – ушла в народ!
Текучки в классике, утечки,
И шепоток пройдёт опять:
Такие, знаете, словечки
Порою стала выдавать!
И голос странный, как продутый,
И взгляд как будто нездоров,
Краснеет даже критик Лютый,
Слыхавший много разных слов.
Но стоп! Задето за живое,
На кой такие женихи.
Взбредёт же в голову такое,
Когда не пишутся стихи!
Маясь уходом
Когда умру, о сколько будет слёз!
И сколько слов! И сколько возлияний!
(Надежда Мирошниченко)
Писатели, правление, родня,
Сбежится люд, барышники с базара,
И понесут притихшую меня
По улицам родного Сыктывкара.
И к образу поэта как штрихи
Появятся – ни много и ни мало –
На плюшевых подушечках стихи –
О как трудилась, сколько написала!
А сколько слов приятных и речей,
Как много всё же о себе не знала!
И сладость слов – что на душу елей.
Подумаю: зачем я умирала?
И прокурлычут громко журавли,
Прислушаюсь: всё слёзы и рыданья,
И вот уже бросают горсть земли.
Последние мгновенья расставанья!
Но голоса знакомые слыхать,
Замечу, эти были не речисты.
«Тебя нам будет очень не хватать!».
И догадаюсь – это пародисты.
Загадка Ильича
Ночью к стенке я поставлен,
Словно белый офицер.
Приговор читает Сталин,
Взявший душу на прицел.
Говорит, что я бесценен,
Хоть и вражеский поэ,
У него товарищ Ленин
Отбирает пистолет
И кричит: «Поэт он крупный,
Недоступный палачам,
Мы его с Надеждой Крупской
Изучаем по ночам!»
Владимир Скиф
«Капитал» в шкафу пылится.
На столе горит свеча.
Крупской по ночам не спится,
Нету сна у Ильича.
Томик мой любовно гладя,
Вождь зовёт её в кровать:
«Ну, ложись, товарищ Надя,
Будем Скифа изучать».
«Я в литературе дока, –
Говорит она в ответ, –
Знаю Пушкина и Блока,
Фета помню, Скифа – нет».
Надя сердится, похоже,
На издательский товар
И на всякий случай всё же
Надевает пеньюар –
До колен, полупрозрачный,
Тонкий, словно из дождя,
Взгляд бросает многозначный
На раздетого вождя.
Шевелит губами Ленин, –
Вроде как стихи зубрит,
Говорит, что я бесценен,
«Вот так глыба!» – говорит.
Да, у баб свои запросы.
Крупская лежит, ворча.
Ну, какие тут вопросы
О потомстве Ильича!
По секрету
Здесь днём сегодняшним живём,
Семь бед – один ответ,
А там, куда мы все идём,
Зарплат и пенсий нет.
Там, с остальными наравне,
К расчёту, наг и бос,
И то, что ты служил стране,
Зачтётся ль? Вот вопрос.
А не зачтётся, что пенять?
Авось, у райских врат
Ты будешь на часах стоять,
Солдат – везде солдат.
(Александр Кердан)
Чтоб эрудицией блеснуть,
Я рассказал секрет,
Что там, куда мы держим путь,
Деньжат и блата нет.
Что там изжито хвастовство
И скромен всякий стих,
И что обиднее всего –
Там нету книг моих.
Я задержусь у врат чуток,
Армейских полон сил,
Но не возьмёт под козырёк
Архангел Гавриил.
Как страшен цепкий взгляд его!
Как сканер – этот взгляд,
И райсовет, скорей всего,
Пошлёт меня в наряд.
Ну, Склифосовский!
Вопрос отнюдь не философский
И не досужий в том числе:
Любил ли женщин Склифосовский
На хирургическом столе?
(Владимир Бояринов)
Ответ совсем не философский
По грешной катится земле:
Любил всех женщин Склифосовский
На хирургическом столе.
Писаки там, писаки возле,
И мысль терзает, нету сил:
Он до наркоза или после
Больную женщину любил?
Сейчас одна, потом другая…
Всё представляю, сам не свой,
Как беззащитная, нагая
Она лежит под простынёй.
Перед великими тускнею,
Каков мужик – как дуб, могуч!
«Минутка есть ещё, успею!» –
И двери запирал на ключ.
До кабинета мне два шага,
Опять с тоской (чего скрывать?)
Смотрю на стол, а там бумага.
Кто б подсказал, о чём писать?
Приметы
Мне дожди ни к чему пока:
Паука раздавить – к дожжу.
Вязь роскошного островка
Из угла сметать погожу.
(Наталья Радостева)
Я приметами убедю,
Всё сбывается тут и там,
Муж к соседке зашёл – к дождю,
Ну, а если домой – к ветрам.
К страшной ссоре рассыпать соль,
Ты подальше её положь,
Это к ночи бессонной, коль
Огурцы молоком запьёшь.
К боли пяточной и зубной,
Если дёргать за хвост кота,
Ну, а птицы над головой –
Это к стирке мого пальта.
Нос зачешется – тут бегом
В тот, что рядом, универсам.
Это к встрече, увы, с врачом,
Если чешется где-то там.
Если метко летит плевок
И тебе не хватает слов,
Это как бы опять намёк,
Что не надо писать стихов.
Как-то рвано и дыряво
Тяжело душе в ночи бессветной,
Жутко на отшибе бытия.
Как рулон бумаги туалетной,
Рвано убывает жизнь моя.
(Лев Котюков)
Где-то там моя шальная слава,
И в кармане старом ни гроша.
На душе то мокро, то дыряво,
Вот такая странная душа.
Сравниваю с горестью заметной
Всякие предметы бытия.
Как рулон бумаги туалетной,
Рукопись бесценная моя.
А сосед вчера проснулся рано
И в трусах в уборную бегом.
Как-то рвано, скажем, очень рвано
Уходил в безвестность первый том.
Муки творчества
Всё мир я спасаю, всё духом скорблю.
Как сбросить мне эту обузу?
Я каждую ночь своим сердцем кормлю
Свою сумасшедшую музу.
(Николай Зиновьев)
Тревожные мысли по кругу неслись,
На глобусе выцвели краски.
Спасительных строчек, поди, заждались
В Гвинее, Мали, на Аляске.
Я грыз карандаш, я зачёркивал вздор,
Но муза явилась – о чудо!
И, видя голодный, блуждающий взор,
Я выложил сердце на блюдо,
Печёнку, кишечника пару мотков,
Отрезана правая почка.
И вот не осталось уже потрохов,
А только одна оболочка.
И гладила муза свой круглый живот,
Мне с хищницей не было сладу,
И чтобы её подзадорить на взлёт,
Я музу пошлёпал по заду.
Она натянула короткий подол,
Взмахнула крылами, зарделась –
И рухнула тут же на письменный стол:
«Прости меня, Коля, объелась!».
Потоп
И этот плавный лёгкий взлёт
вовек продлится над
тем, что бежит, летит, течёт
с восхода на закат.
(Марина Струкова)
Ну, до чего унылый вид,
и что-то – просто страх –
уж не летит и не парит
в суровых небесах.
Вода лилась, стекала вниз
и становилась злей,
а также появлялась из-
под вековых корней.
Она бежит который день,
бурлит и бьётся об.
Затоплен сад, снесло плетень,
считай, второй потоп.
Вон жук пускает пузыри,
накрыло лопухи.
Не тонут ну никак Мари-
ны Струковой стихи.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.