
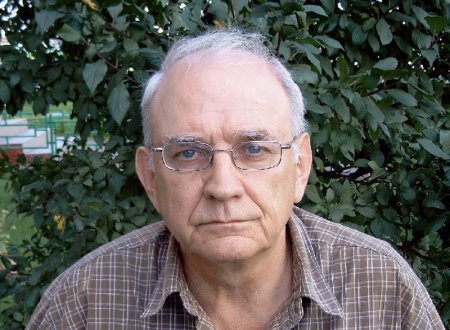
рассказ
Памяти Татьяны Бек
Слишком огромная тень автора "Ворона” легла на меня, когда я спускался в подземелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона”, теперь будет рассказ "Ворон”. Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Охваченный страхом, бежал я из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мочь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, дабы узнать, откуда исходит столь необычное сияние, ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек.
Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так застукал в двери дома моего.
"Гость, - сказал я, - там стучится в двери дома моего,
Гость - и больше ничего”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Мне пришлось вернуться к неудовлетворительному выводу о том, что, хотя и существуют очень простые явления природы, способные воздействовать на нас подобным образом, но анализ этой способности лежит за пределами нашего понимания.
Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор, -
Безыменной здесь с тех пор.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. В течение всего унылого, темного, глухого осеннего дня, когда тучи нависали гнетуще низко, я в одиночестве ехал верхом по удивительно безрадостной местности и, когда сумерки начали сгущаться, наконец, обнаружил в поле моего зрения Дом Ашеров. Не знаю отчего, но при первом взгляде на здание я ощутил невыносимую подавленность. Сердце леденело, замирало, ныло - ум безысходно цепенел, и никакие потуги воображения не могли внушить ему что-либо возвышенное. Что же - подумал я - что же так смутило меня при созерцании Дома Ашеров? Тайна оказалась неразрешимою; не мог я справиться и с призрачными фантазиями, что начали роиться, пока я размышлял. Меня смутило, прежде всего, то, с каким упорством, если не сказать, упрямством переводчики в последнее время переводят "Дом Ашеров”, вместо "Дома Эшеров”. Приказываю всем и повсеместно использовать при переводе сочетание "Дом Эшеров”, опираясь на не подлежащий сомнению авторитет Осипа Мандельштама:
Мы напряженного молчанья не выносим, -
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: «Просим!»
Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо!
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье - суета, и слово - только шум,
Когда фонетика-служанка серафима.
О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
Чтоб горло повязать, я не имею шарфа...
1912
Еще раз с некоторым раздражением повторяю: О Доме Эшеров Эдгара пела арфа... Эшеров! Э... Потому что Эмильевич!
Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
"Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость - и больше ничего”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Когда я занимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладела совершенно сумасшедшая идея написать композицию по началам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею, потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама.
И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
"Извините, сэр иль леди, - я приветствовал его, -
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал”, - дверь открыл я: никого,
Тьма - и больше ничего.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья... о, конечно, она мне о ней говорила... И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом - Лигейя! - воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и, в конце концов - возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шутливый запрет моей Лигейи? Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек.
Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: "Линор!”
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: "Линор!”
Прошептало, как укор.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подсунул трактат Германну за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу и совершенно убедится в ее необычайных достоинствах. Когда я занимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладела совершенно сумасшедшая идея написать композицию по началам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею, потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама. Студия помещалась в доме № 13 по улице Дзержинского в клубе МВД.
В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
"Это тот же стук недавний, - я сказал, - в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, -
Ветер - больше ничего”.
Дома № 11 и 13 по улице Дзержинского напоминают о В. И. Ленине и Ф. Э. Дзержинском. В 1918 году оба здания были переданы ВЧК, в № 11 в годы напряженной борьбы с контрреволюцией находился кабинет Ф. Э. Дзержинского, которого несколько раз в 1919 году посещал В. И. Ленин. В клубе ВЧК (ныне клуб МВД СССР - дом № 13) 7 ноября 1918 года В. И. Ленин выступил на митинге-концерте сотрудников ВЧК с речью, которая заканчивалась словами: "Для нас важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима". В том же доме № 13 по инициативе Ф. Э. Дзержинского было основано спортивное общество "Динамо", чье правление долгое время здесь и находилось. Левая часть здания была построена в 1904 году оптической фирмой Трындиных, на крыше его в рекламных и просветительных целях открыли общедоступную астрономическую обсерваторию, ныне она принадлежит Педагогическому государственному университету имени В. И. Ленина. Правая часть здания старее, она стоит с 1876 года. В 1920-х годах в доме собиралось Общество астронавтики, членами которого были К. Э. Циолковский, Ф. А. Цандер, Я. И. Перельман. Все дело в том, что мы живем в мире двойственностей. Ленин и Кувалдин, Дзержинский и Высоцкий. В великих людях нет ничего человеческого, а в человеках нет ничего великого.
Только приоткрыл я ставни - вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
Сел - и больше ничего.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Это? - а, ничего! Благородные и вольные граждане Эпидафны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоверности, отваге, мудрости и божественности своего повелителя и, вдобавок, сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше чем своим долгом возложить на его главу (дополнительно к венку поэтов) венок победителей в состязаниях по бегу - венок, который, несомненно, он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэтому ему вручают заранее.
И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: "Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?”
Каркнул Ворон: "Nevermore”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Но рослый моряк взирал на поражение своего товарища без покорности. Сбросив Короля Чуму в погреб, отважный Рангоут выругался, захлопнул за ним люк и широкими шагами вышел на середину комнаты. Тут он сорвал качавшийся над столом скелет и начал им размахивать с такой энергией и охотой, что, пока погасал последний мерцающий в помещении свет, ему удалось вышибить мозги подагрическому господинчику. После этого, изо всех сил кинувшись на роковую бочку, полную октябрьским пивом и Хью Брезентом, он во мгновение ока опрокинул и покатил ее. И хлынул поток такой бурный - такой бешеный - такой напористый - что комнату затопило от стены до стены - нагруженные столы перевернулись - козлы попадали - ушат с пуншем был повергнут в камин - а дамы в истерику. Поплыли, переворачиваясь, гробы и похоронные принадлежности. Кувшины, баклаги и сулеи перемешались в беспорядке, оплетенные фляги с маху налетали на битые бутылки. Страдавший "ужастями” моментально утонул - окостеневший господин отплыл в своем гробу - победоносный же Рангоут, схватив за талию толстую даму в саване, выскочил с нею на улицу и прямиком пустился к "Беззаботной”... Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Антиоха Эпифана обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля. Эта честь, однако, более подобает Камбизу, сыну Кира. А личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прикрасах. Его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за сто семьдесят один год до рождества Христова; его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе; его беспощадные преследования евреев; учиненное им осквернение Святая Святых и его жалкая кончина в Табе после бурного одиннадцатилетнего царствования - события выдающиеся...
Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой "Nevermore”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Однажды в октябре, около двенадцати часов ночи, в пору доблестного царствования третьего из Эдуардов, два матроса из команды "Беззаботной”, торговой шхуны, курсирующей между Слюйсом и Темзою, а тогда стоявшей на якоре именно в Темзе, были весьма изумлены, обнаружив себя сидящими в пивной, расположенной в приходе св. Андрея, что в Лондоне, - каковая пивная в качестве вывески имела изображение "Развеселого матросика”. Когда я занимался в театральной студии Владимира Высоцкого, мною овладела совершенно сумасшедшая идея написать композицию по началам и концам рассказов Эдгара По. Но тогда я отложил эту идею, потому что занялся творчеством Осипа Мандельштама.
Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шептал я, вдруг вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор”.
гаркнул Ворон: "Nevermore”.
Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы... годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении - никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только - Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял вовек - Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу, и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу.
При ответе столь удачном вздрогнул я в эатишьи мрачном,
И сказал я: "Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом "Nevermore”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Для этого нужно каждый день писать буквы, в каждой из которых сидит Бог. Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым; однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.
И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: "Nevermore”.
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Злосчастный и загадочный человек! - смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким - ах! - каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты должен был быть - расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции - в возлюбленном звездами морском Элизиуме, где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио, взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю - каким ты должен был быть. О, наверное, кроме этого есть иные миры - мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил? - Он поглядел на мою одежду - она была выпачкана глиной и забрызгана кровью.
Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Моя жизнь состоит из букв и слов, а не из огурцов и квашеной капусты. Поэтому сижу с утра до вечера за письменным столом. Конечно, литература при социализме не могла позволить себе никаких обобщений, а когда нечто подобное проскальзывало, то добром для авторов это не кончалось. Писательство, скажу я Вам по секрету, дело безнадежное для жизни, оно дело загробное. Имя писателя проявится спустя лет несколько после его кончины в Большом времени, а не в малом, где выстраиваются в иерархическую лестницу эстрадники-щелкоперы. Писателю не надо суетиться, за него бегает по миру его текст. Достоевский истлел до атомов в могиле, а текст его все молодеет, и все более энергичнее бегает по миру. Кто хочет получать гонорары деньгами или мукой, тому надо выходить под светом софитов на эстраду в какой-нибудь красной кепке и голубом пиджаке с двумя разрезами, размахивать руками, приплясывать и орать в зал какую-нибудь хуйню, потом получать цветы, колбасу и водку. Но легкий успех приносит легкое и, причем, сиюминутное забвение. Ходят министры в дорогих костюмах, садятся в правительственные лаково-черные машины, их жены ходят в соболях и золоте... А в проходе, в чулане сидит оборванный, небритый Кант-Кувалдин-Ницше и ставит буковку к буковке. Потом все эти министры исчезают, и никто не помнит ни их должностей, ни их фамилий, а Кувалдин сияет в веках Логосом звонким! Рукопись, найденная в бутылке, была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора, на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.
Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: "О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес - исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!”
Каркнул Ворон: "Nevermore!”
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Слишком огромная тень автора "Ворона” легла на меня, когда я спускался в подземелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона”, теперь будет рассказ "Ворон”. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов - не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений.
Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?”
Каркнул Ворон: "Nevermore!”
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростию духа, какую вселяет в нас философия, - подобно тому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар (судя по Священному писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала.
Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор -
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?”
Каркнул Ворон: "Nevermore!”
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Китс умер от рецензии. А кто это умер от "Андромахи”? Ничтожные душонки! Де л’0млет погиб от ортолана. Повесть об этом короткая. Дух Апиция, помоги мне!
"Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! -
Я, вскочив, воскликнул: - С бурей уносись в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!”
Каркнул Ворон: "Nevermore!”
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. И сразу же унялась ярость огненной бури, мало-помалу все стихло. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Белесое пламя еще облекало саваном здание и, струясь в мирную заоблачную высь, вдруг вспыхнуло, засияло нездешним светом, и тогда тяжело нависшая над зубчатыми стенами туча дыма приняла явственные очертания гигантской фигуры коня.
И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
Никогда, о, nevermore!
Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным. Сияла полная, заходящая, кроваво-красная луна... Гроб был завален цветами, из-под которых едва выглядывало очень молодое лицо Татьяны Бек. Слишком огромная тень автора "Ворона” легла на меня, когда я спускался в подземелье старого дома на Полянке. У меня есть повесть "Ворона”, теперь будет рассказ "Ворон”. Рассказ должен превратиться в навязчивую идею, пока ты его не написал. Я понял, что я умру, и мне надо стать бессмертным.
"НАША УЛИЦА", № 12-2005

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.