
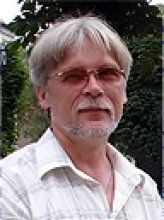
* * *
Старая от долгого времени деревня жалась немногими дворами к подножью пологой горы, заросшей колючим густым кустарником и высокой острой травой. Уральский хребет в самой южной своей части раскрошился на отдельные ослабевшие холмы, которые деревенские всё равно считали горами, давая каждой собственное имя. Та, у подножья которой умещалась деревня, носила название Ильинской: в давние годы здесь в суходолье скрывался беглый каторжный революционер Ильин.
Если дальше, по верхней дороге, горы начинали медленно расти, обнажаясь рёбрами множества камней и истекая быстрыми ключами, то верстах в двадцати ниже лежала в солнечном изнеможении одинаковая сухая степь.
Огибающий поселение ручей Чёрный по весне разбухал до размеров реки и отсекал единственный дорожный путь сообщения: проехать вброд могли только трактора, остальная колёсная техника надёжно застревала, потеряв свою сильную энергию.
Земля безмолвно дышала большой грудью, вращаясь силой пылкого летнего ветра. С младшего детства Семён знал о способности земли дышать всей своей неровной поверхностью: он убеждался в этом, когда прикладывался ухом к речному песку или к мягкому мху, приросшему к пню. Под его слухом земля начинала в своём далёком объёме слабо гудеть, как высокий аэроплан, который когда-то пролетел над его деревней неизвестным воздушным путём. «Раз внизу земли прячется большая голова, которая умеет дышать и гудеть, то где-то там, в центральном теле, наверно, бьётся и огромное глиняное сердце, - думал мальчик Семён, когда оставался один среди спящей ночи. – А когда ему совсем тесно, оно злится, как дедушка Прокоп, и сильно сжимается. Вот тогда всё строительство и деревни разрушаются землетрясением». Однако, сколько бы Семён ни прослушивал сухое поле или огородные грядки, ничего дополнительного из земли он больше не узнавал. «У меня, наверно, ещё слух не сложился, чтобы понимать что-то из подземельного нутра, или само сердце слишком глубоко закопано». Но ему всё же очень хотелось обнаружить из земли биение глиняного сердца, и он продолжал вслушиваться в грунт, лёжа на прохладной незанятой поляне. «Интересно, а как же тогда мураши не глохнут – они же совсем близкие к земле, – или у них вообще слуха нет?» – сомневался Семён, раскинувшись на траве и глядя в безмолвное, тянущееся за облаками расширяющееся небо.
Как-то раз летом он всё же нашёл из неподвижной земле соседей Никифоровых какой-то неясный пульсирующий звук. «Может, предупредить отца и брата Митьку, а то случится беда и все крыши повалятся, а остальное вообще ссыпется в трещину с сараями и кузней?» – забеспокоился Семён. Но звук быстро угас в холодной земной тишине и больше не возобновлялся.
Всё своё спешащее детство Семён пытался выяснить главный секрет земли. Он даже пробовал прослушать землю из воды деревенского ручья, но течение мешало ему приноровиться и быстро уносило с места.
Один раз Семён ушёл за огороды, взяв из амбара старую ржавую лопату. Изранив руки, он за несколько часов вырыл на задах, в глинистой почве низины, трудную яму, но, как ни слушал холодное дно земли, оно молчало. «Это всё потому, что моё сердце слишком шумное и мешает слышать всю закрытую землю. А может, она слишком уплотнилась за много лет и уже не пропускает никакой посторонний голос», – говорил он сам себе, пока не уснул в яме, где его и нашли под вечер рассерженный отец и Митька.
Дома он был заперт на ключ в чулан, куда отец отправлял Семёна из-за большого непослушания. Сидя в неподвижности и слушая, как скребётся одиночная мышь, Семён вдруг понял, почему не может узнать работу глубинного сердца. «Человек – пока он живой – его и не услышит никогда, потому что он ест хлеб и картошку да живёт для роста туловища, а вот деревья, травы и лопухи устанавливаются на одном месте и говорить не умеют, но всё чувствуют, потому что они питаются из земли водой и глиной через корни, чтобы копиться и цвести вокруг деревень. А человек может слышать глиняное сердце только когда умрёт, поэтому его и закапывают поглубже, где ему с ним не скучно от одной темноты. Я тоже когда-то умру и тогда уж точно услышу, как оно бьётся».
Привыкнув к этой истине, Семён уснул.
Он снова увидел мать, которая ещё прошлой зимой была для всех живой, а потом умерла и осталась только в памяти сна. Ещё прежняя, не повреждённая горячей болезнью, матушка протянула ему бесшумную, тонкую руку, увлекая за собой в широкие сени из белого дерева. Её знакомое лицо быстро заполнило собой всё покойное пространство, в которое не вмещались другие, даже отец.
– Почему ты так быстро умерла и не всё успела мне рассказать, что увидела? – задал он матери свой вопрос. – Мне без тебя теперь страшно, я даже в амбар боюсь заходить. Митька смеётся за меня. Он, конечно, уже большой и умеет без тебя справляться. Ты всю свою заботливость на него истратила, пока я ещё на свете не был. Он и ходит сейчас довольный. А я около тебя только шесть лет всего провёл… Вот сейчас проснусь нарочно, чтобы с тобой не разговаривать, всё равно ты ничего уже не видишь, – пригрозил он матушке из сна. – В других местах столько интересных дней происходит с людьми, а мне теперь только с нашей собакой не скучно...
– Я всё вижу и всё знаю, Сёмушка, – возразила мама. – У меня здесь не такой скорый мир, как в деревне. Но если на всём ночном небе не останется ни одной звёздочки, я всё равно тебя рассмотрю, куда бы ты ни схоронился. И люблю тебя ещё больше, потому что очень далеко от тебя живу, куда не всегда даже твой сон добирается.
– Ты меня обманываешь, – сердился мальчик Семён. – У тебя, я знаю, глаза от болезни закрылись, а человек не может смотреть через закрытые глаза, да ещё из такой далищи.
– Всё, сынок, изменилось: я теперь по-другому вижу – через луну и солнце, а бывает, через деревья или облака. Я нахожусь везде, хотя меня и нет вовсе. Каждая душа оживает внутри неба и никогда не исчезает…
– Ты затвердела, и тебя на кладбище оставили, где всё травами поросло, – не верил маленький Семён. – Как ты могла оттуда в небо выбраться? До него лётчики даже не все долетают.
– Нет, Сёмушка, мне совсем не обязательно высоко летать. Каждая мать остаётся в своём ребёнке насовсем. Во мне тоже моя мама ещё живёт, и я сама и в тебе, и в Мите есть...
Поговорив с матерью, Семён расхотел следить за остальным пустым сном и открыл глаза. В худые двери чулана пробивался сквозной свет солнечного дня. В щель Семён увидел во дворе отца, который отбивал гладкую косу.
Василий Первухин, крепкий, сноровистый мужик, рано овдовевший, не научился обижаться на крестьянскую жизнь: так глубоко осела в нём любовь к жене. Если он и ругал детей между тяжестью труда, то каждый раз просил про себя прощения у супруги Нюры. Она молчала и с укором смотрела на Василия с фотографии. Возникавшая было обида от её настенного осуждения быстро распрямлялась до спокойствия. В нём не заживало чувство вины перед детьми, что не смог уберечь для них мать. Ещё больше он боялся потерять своих мальчишек и в тяжёлую голодную зиму питался после них, если что оставалось. Другую женщину близко он так и не принял. Одинокая немая Нинка прожила в его доме меньше месяца, не успев привыкнуть к детям и скупости ответных чувств. Весной она незаметно ушла, побоявшись, что из-за неё и Василий замолчит навсегда и не сможет сообщить обстановку жизни своим подрастающим сыновьям.
Василий ловко работал с любым подручным деревом: делал колёса к телегам, грабли, рукоятки для косарей, долбил корыта. Эту и другую полезную хозяйственную утварь, сработанную вдовцом, охотно меняли в сёлах на муку и соль. Нарастить в дом добра Василию, однако, не удалось, потому что он был увлечён в партийную ячейку и большинство собственноручных вещей отдал неимущим. Хлопоты по улучшению общей бедняцкой жизни отнимали у него много времени, так что братьям самостоятельно приходилось осваивать мужское дело.
Они рано научились уставать и курить. Когда отец унёс в ячейку единственный стол и старый армяк, Митька влез ночью в окно школы, где руководствовалось бюро, и забрал в отместку красную суконную скатерть и керосиновую лампу. После этого случая отец перестал разговаривать с сыном, и когда тот шестнадцати лет от роду уехал подводой из дому поступать в рабочие на завод, Василий не прервал созидательных дел и не пришёл провожать Митьку.
Семён остался один и бросил ходить в школу. Так как отцу было организационно некогда, держать хозяйство пришлось Семёну. Сны ему оставались короткие и глубокие, в которых мама уже не появлялась.
Отец, знавший словарную грамоту, смог сдать экстерном экзамены за неполную школу. Его назначили руководить сельским комитетом бедноты, который вскоре вошёл в батальон особого назначения по ликвидации укрывавшихся в лощинах банд. Василию выдали новый, ещё в масле, наган и мандат, его товарищам – три винтовки, шесть гранат и ящик патронов. При уничтожении банды батьки Скопца Первухину оторвало взрывом ногу выше колена. Выходила его та же немая Нинка. Но, оставшись вне интенсивности созидательного дела, калеченый Василий скоро потерял движение времени и разочарованно умер за год до своего сорокалетия. Немая осталась жить в избе, чтобы домашнее хозяйство не пропало без натруженного женского внимания.
Пока отец строил новый мир, Семён вырос в крепкого, слегка сутулого паренька, умеющего самостоятельно выполнять привычный деревенский труд. Брошенные погружённым в борьбу отцом деревянные изделия Семён доделал и научился ладить новые. Инструмент действовал в его удачных руках легко и надёжно. Особенно хорошо получился справленный отцу деревянный протез на кожаных ремнях, с которым Василия Первухина и похоронили…
…В первый же месяц войны Семён был призван на фронт. Провожала его Нинка, ставшая в его сиротской жизни и матерью, и женой. Он обещал ей вернуться.
* * *
Ранней весной 1946-го Семёна Первухина привезла в родную деревню на подводе почтальонша Александра Фёдоровна, пожилая женщина с больными ногами. На войне у неё убило и мужа, и сына. Обе похоронки она выдержала без слёз, но вырывающаяся боль души навсегда отразилась в обессиленных глазах. Если некоторые овдовевшие деревенские бабы отдавали всю неиспользованную женскую любовь сохранившимся при них детям, то Александра Фёдоровна, рано родившая сына, была лишена и этого. Единственным живым существом возле неё была кобыла Зорька, на которой почтальонша два раза в неделю выезжала на станцию за регулярной почтой. Лошадь знала, что нужна она не только для труда, и ходила знакомыми дорогами без лишних понуканий, слушая хозяйку.
Последней сошедшей зимой Александра Фёдоровна ездила в Восточную Пруссию, чтобы побыть рядом с убитым в той земле сыном. Он лежал в братской могиле вместе с другими покойными солдатами на окраине разрушенного немецкого города, за который им, забывшим уберечься, предстояло умереть из-за ненависти к противнику.
Город был старый и беззащитный. Тяжёлая сила войны нанесла ему непоправимые увечья: центр занимали полуразрушенные здания с провалившимися крышами и разбитыми вывесками магазинов. Ночью на чёрных без света улицах с кирпичными завалами и горами щебня и мусора грохотало от ветра ржавое железо.
Ей разрешили остановиться в расположенной в одном из сохранившихся особняков военной комендатуре, поскольку в городе было небезопасно.
Среди битых немецких домов Александре Фёдоровне стало нестерпимо жалко своего потерянного сына: весь этот сократившийся город со своей неизвестной историей не стоил одной убитой жизни её ребёнка, которому теперь придётся навсегда лежать в чужой тесноте земли. На военном кладбище, оставшись одна, она, наконец, заплакала, чтобы сын услышал её из могилы. Рядом с ним ей стало легче, и она даже подумала остаться в этом растерзанном городе, но забота о кобыле Зорьке и почтовом снабжении пересилила её желание. Александра Фёдоровна вернулась домой, откуда ей предстояло помнить это далёкое место, спасённое для новой жизни её сыном…
В сельсовете, где Александре Фёдоровне выдавали корреспонденцию, её вызвал к себе председатель товарищ Почепцов.
За казённым председательским столом отдельно сидели двое военных людей. У крайнего было строгое ответственное лицо и погоны офицера. Командир курил папиросу и изучал бумажный документ. Другой военный в линялой гимнастёрке глядел в окно за внешней жизнью. Он показался Александре Фёдоровне знакомым.
Увидев почтальоншу, председатель поднялся для рукопожатия.
– Вот, товарищ Талова, познакомьтесь – гвардии капитан из района с сопровождаемым Семёном Первухиным из вашей деревни. Вы его, может быть, помните.
Капитан тоже поднялся, оставив документ в руках. Надев фуражку, он поздоровался и кивнул в сторону Первухина:
– Прошу вас доставить сержанта на место прежнего жительства. Он нас почти не слышит. Врачи не смогли его поправить после глубокой контузии, хотя больше года по госпиталям лечили. Теперь вот отписали на родину. Может, здесь он как-нибудь восстановится и сообразит, как проходить дальнейшую жизнь. У него остались родственники?
– Нет, вроде бы… – засомневалась Александра Фёдоровна. – А это точно Первухин? Он же был молодой парень совсем, а этот солдат седой и непохожий.
– Ему, дорогой товарищ, война лет добавила. Он по метрике и так вполне молодой и способен существовать в целом и дальше.
Сержант Первухин продолжал безучастно смотреть в окно. Изменения в мире за стеклом, похоже, были ему яснее, чем ближний разговор. Один раз он даже привстал к окну, чтобы увидеть уличную жизнь более подробно.
– Теперь вот инвалид… Вы там подсобите, Александра Фёдоровна, чтобы человек не пропал совсем: фронтовик всё-таки и медалями боевыми награждён. Так-то он нормальный, только память на события застыла и слова многие не получаются… А кто из родных у него есть? – повторил капитан свой вопрос.
– Нет никого. Он сиротский. Присматривала за ним одна немая. Вроде жил он с ней, бабы разное говорили… Померла тоже.
– Всё равно подсобите. Вы, как коммунист, должны иметь ответственность… Неправильно будет, если ещё одного солдата война спишет. Меня вон тоже зацепило железом, – капитан показал кисть руки с двумя отсечёнными пальцами. – Ладно, я. Палец не голова – её заживить труднее…
Капитан помог Первухину влезть в телегу, испачкав колёсным дёгтем галифе:
– Прощай, боец. Ты храбро воевал. Теперь вот вспоминай свою родину. Она главная твоя опора и спасение…
Он пожал Семёну и Александре Фёдоровне руки и вернулся в сельсовет.
Всю дорогу до деревни ехали молча. Семён Первухин оставался в телеге даже когда Зорька привычно пошла вброд. Не вдохновила Степана и панорама забытых мест – сержант невозмутимо курил, размышляя о чём-то стороннем и смотря в задумчивую сторону.
У семейного дома с заколоченными окнами он, без какого-либо волнения, слез с телеги, поправил накинутый на плечи вещмешок и, с трудом отворив калитку, зашёл в заросший разной травой пустой двор…
* * *
Деревня жила усталой послевоенной жизнью. В избах, крытых соломой, не было электрического света, и освещались они изнутри только лампадами или лучинами. Забытая земля набухала бесполезными глубокими корневищами. Плуг, который тянула единственная на всё село лошадь - почтальонская кобыла Зорька, с трудом поднимал жирные целинные земли.
Летом селяне собирали черёмуху и дикую клубнику, обильно росшую в лощинах. Сушили ягоду в холщовые мешки про запас. Грибы и рыбу также заготавливали впрок.
Мужчины вернулись только в шесть дворов. Семёна Первухина деревенские женщины за мужика всерьёз не считали. Он и сам их старался избегать. Александра Фёдоровна на первых порах пыталась присмотреть за инвалидом, но он отстранился от заботливой женщины и ушёл в лес.
Всё лето Семён жил где-то на Павловских просеках и даже построил небольшой бревенчатый домик. Заготовленное на зиму перенёс в деревню. Изба бобыля обречённо ветшала без твёрдой хозяйской руки. Ни огород, ни домашнюю птицу Первухин не заводил, что не мешало ему переживать холодные зимы. На улицу он старался не выходить, отсиживаясь дома. Бывал только у жившего через двор старика Карпа Степановича, которому за брагу и самогон отдавал в обмен плетёные лубочные корзины, резные ложки и другие поделки.
Деревенские звали Первухина дед Семён, хотя тому не было и тридцати четырех. К Пасхе бобыль сменил в избе наличники, нарисовав на них сочные красные звёзды, на всех высоких местах двора прибил флюгеры и, к удивлению селян, выстроил во дворе сооружение, напоминавшее сторожевую вышку. Иногда, бывало даже зимой, он поднимался по лестнице наверх и по нескольку часов что-то для себя наблюдал впереди.
Регулярно появлялся Первухин только в клубе, куда раза два в месяц привозили кинофильмы из района. Электрическая машина, подававшая свет в клуб, громыхала на всю округу. Никого это не смущало: народ собирался весь, от мала до велика, и долго не расходился после показа.
Видели Семёна и в кузне, где он помогал вдовцу Вершинину, потерявшему на войне левую руку по локоть. Вершинин, оставшийся без жены в первую послевоенную зиму, не ходил даже в клуб, а говорил мало и неохотно. Так они молча и работали: Первухин большим молотом плющил горячее железо в том месте, которое ему показывал кузнец.
Только 9 Мая, в День Победы, к Семёну Первухину, как казалось односельчанам, возвращалась притихшая память. Он надевал свою выцветшую гимнастёрку, подпоясанную ремнём с начищенной звездой, лёгкие сапоги и танкистский шлем. На плечо Семён набрасывал вещмешок, в котором держал самостоятельно изготовленные свистульки для детворы и другие неизвестные вещи. На груди сержанта блестели две медали «За отвагу» и гвардейский знак со сбитой эмалью. Иногда он прикладывался к пристроенной к поясу фляжке, чтобы быстрее радоваться свежей весенней жизни.
Обход деревни Первухин начинал с верхних дворов. Мужикам горячо тряс руки, пытаясь что-то говорить. Разобрать можно было только слово «долго». Немногой ребятне дарил игрушки из глины, бабам и молодухам кланялся, снимая шлем. Обычно ему подносили рюмку-две. Он выпивал, благодарил и шёл дальше. К обеду, пьяный уже изрядно, приходил к кузне, собрав вокруг себя ребятишек, и играл на губной гармошке одинокие монотонные мелодии. Мальчишки мерили его шлем и просили показать, как нужно ездить в танке. Уступая, Семён садился верхом на скамейку и, нажимая на невидимые педали и двигая рычаги, раскачивался из стороны в сторону, закрывая глаза. На потеху детворе он падал на землю и засыпал. Вершинин разгонял детей, втаскивал Семёна одной рукой в кузню и укладывал на топчан.
Каждый год праздник Победы проходил у Первухина примерно так же. В последний раз Семён напился больше обычного и проснулся в кузне только к концу следующего дня. Сняв шлем, в котором спал, он умылся в ручье и вернулся помогать Вершинину. Тот остановил его жестом, закончил работу, вынул из верстака початую бутыль и налил два стакана самогона. Закусывали прошлогодней варёной картошкой в мундирах и хлебом.
– Так жизнь и пройдёт, а что мы в ней видели? – сказал кузнец Вершинин, наливая ещё по полстакана. – Шторка за нами закрылась: оба мы увечные войной: у тебя хоть руки все, но с головой противодействие. А я что одной рукой сделаю? Бабу не обнять. Рубашку снимешь – культя висит… Чё их, женщин, пугать? А без них тоже живётся как-то незаметно. Моя-то, помнишь, была красавицей какой? А ведь умерла за что-то... Пока мне немец руку рвал за тридевять земель, её и не осталось… Мне бабы так и не сказали толком, от чего померла. Вот она бы меня любого с войны забрала. А что сейчас?
Семён слушал, но было неясно, понимает ли он Вершинина. Кузнец принёс ещё несколько картофелин и сало в тряпице.
– Давай за Победу! Мы войну выиграли, а домой вернулись, считай, убитые, – с этими словами он выпил, закусив маленьким кусочком сала. – Тебя вон уже дедом зовут. Какой же ты дед в такие годы?! Всю свою автобиографию на танки перевёл, а взамен существования у тебя только медали железные. Наш взводный ещё моложе был… Не отпускает война по возрасту…
Первухин замычал, поднялся с места, показывая пальцем на нашивку тяжёлого ранения.
– Да сядь, угомонись… Мне тоже досталось… – сказал кузнец, усаживая Семёна. – Война теперь нам – мать родная, и ничего у нас с тобой без неё не примется. Хотя нынешняя жизнь только именно нами и жива…
Они выпили последнее. Семёна вновь пришлось укладывать под рогожу. Ближе к полуночи Вершинин отвёл бобыля домой. Семён идти не хотел, упирался, размахивал руками. Затем успокоился, заплакал, повиснув на плече кузнеца.
В небе над бывшими бойцами и всей чёрной деревней росли звёзды. Общее ночное пространство отдыхало без большого света, подчиняясь движению коротких ветров.
* * *
К ноябрьским праздникам 1949 года из области в деревню приехал шумный ансамбль песни и пляски. Артисты прибыли на автобусе, который был детворе интереснее, чем красивые взрослые в пёстрых одеждах.
В накуренном клубе собралась вся деревня, не исключая Первухина. Народ занял лавки, стоял вдоль стен, молодёжь устроилась прямо у приземистой сцены, которой явно не хватало выступающим танцорам. Когда несколько пар зашлись в энергичной кадрили, отдельные молодые зрители поддержали танец, насколько это было можно в тесноте клуба.
Новое оживление у деревенских вызвал мужской хор, в котором песни военных лет пели фронтовики. В сопровождении гармонистов они исполняли любимые мелодии под аплодисменты. После одной из песен крайний хорист вдруг спустился со сцены и подошёл к стоящему у стены Семёну.
– Семён! Первухин! Ты ли?! Ну-ка выйди на свет, – артист повлёк за собой на сцену покорного бобыля. – Точно – Семён! Не может быть! Ты же погиб. Мы сами видели, как ваша машина горела там у моста...
Сослуживец взял Первухина за плечи и развернул его для представления селянам.
– Земляки, да с вами рядом герой живёт! – обратился областной гость к жителям деревни, начавшим понимать происходящее. – Мы его вместе со всем экипажем похоронили там, в Польше, а он здесь, оказывается, возродился. И стену подпирает как ни в чём не бывало. Если бы не Семён Первухин, не стоять бы мне здесь сейчас перед вами, да ещё добрую сотню наших боевых товарищей могли положить...
Было видно, что однополчанин Семёна сильно волновался. Он продолжал держать Первухина за плечи, а тот, опустив руки по швам, без звука шевелил губами.
– Сёма, ну что ты молчишь? Скажи людям, как вы своим танком горящим самоходки протаранили и выход на мост открыли. Людей-то сколько спасли от погибели, а сами догорать остались!.. А ты вдруг – здесь!..
У фронтовика, видимо, больше не осталось убедительных слов, и он просто обнял Первухина. Народ захлопал бойцам недавней войны, оставшимся в живых для встречи и удивления.
Концерт больше не продолжался. Люди села и гости обступили танкистов, пожимали им руки, похлопывали по плечу Семёна, который растерянно улыбался…
Однополчанин Первухина оказался командиром вышедшей тогда из окружения «тридцатьчетвёрки», имел фамилию Михайлов и капитанское воинское звание. Ансамбль в полном составе, Семён, а также Вершинин с несколькими деревенскими направились в дом Первухина, где женщины быстро навели чистоту и накрыли стол из привезённых продуктов. Пили не деревенский самогон, а настоящую «Московскую».
– Давайте помянем, кого боями убило, – предложил Михайлов, встав из-за стола. – Они теперь там другую судьбу осваивают, а нам здесь надо строиться и терпеть… Пока всё в душах заживёт, добрых лет сто ещё понадобится.
– Хорошо, если б сто, – возразил кто-то из хора после первой. – Окопы да воронки за это время смогут зарасти, а для памяти разве срок? У Семёна вашего все слова с кровью из ран повытекли. Теперь вам за него помнить придётся…
– Экипаж гвардии старшего лейтенанта Миронова, в котором геройски воевал и Первухин, погиб у Млавы, – вновь стал говорить капитан Михайлов. – А наш батальон с боями ушёл дальше. Закончили мы боевой путь в Будапеште. На улицах его столько наших танкистов побило… Погибать в самом конце войны вдвойне обидно… Слава героям!
Первухин быстро опьянел и был уложен спать. Михайлов оставил на столе для Семёна свой городской адрес, бутылку «Московской», несколько банок тушёнки и уехал со всеми в автобусе.
* * *
Сила солнца с каждым днём осени убывала, и земля не успевала прогреваться, накапливая ночами глубокий холод. В сумрачном небе стыли облака. Только в корнях деревьев оставалось способное тепло для новой весенней жизни. Порывистый ветер срывал с ослабевших ветвей озябшие листья, которые умирали на земле от непривычной неподвижности. Цветное разнообразие природы заменила длительная скука. Долгие дожди размыли дорогу, втиснутую между каменных рёбер гор, и до деревни можно было добраться только пешим ходом. Жизнь в ней из-за скудности природы сократилась, уместившись в натопленных домах.
После случая в клубе Первухин очень редко стал появляться среди людей. Двор его дома зарос бурьяном и лебедой: казалось, что здесь никто уже не живёт. Но каждой ночью в окне бобыля мерцал свет лампады. В кузне Семён почти не бывал, и чем он занимался, не знал даже Вершинин, который первым и забил тревогу.
– Фёдоровна, Первухина-то нигде нету, – сказал он почтальонше, вернувшейся из сельсовета. – Свет уже дня три у него не горит, и на стук он не подходит. Неладно что-то.
– Да в лес, поди, ушёл. Первый раз, что ли? – не расценила опасений Александра Фёдоровна.
– Если бы! Осенью он в деревне живёт. А когда и уходил из дому, мне всегда ключ, метрики и медали свои приносил. Нет его в лесу, факт. Делать надо что-то…
– Может, и случилось что, – засомневалась почтальонша Талова. – Ему вон как на войне голову исказило. И жив вроде остался, а понятия цельного обо всём не имеет. Ни бабы, ни наследства не нажил. Пропасть такому – проще простого, когда дом холостой стоит…
Избу решили вскрывать втроём, с Карпом Степановичем, который быстро открыл непрочную дверь первухинского жилища. Дома никого не оказалось. На широком столе без скатерти стояли разные чашки, на картонке сохла глина, готовые птички-свистульки были заботливо уложены в большую деревянную коробку. Пол и лавки хаты давно не протирались от пыли. Кровать с серой простынёй не заправлена.
Когда уходили, Карп Степанович забил пробой на прежнее место.
– Где вот теперь его искать? Ему невесть что может в голову взбрести, – сказал чем-то недовольный старик.
– Я, наверное, всё же схожу в лес к его сторожке – поищу, пока дождя нет, – решился Вершинин.
Он пролез между жердей и направился по полю к недалёкой опушке. Вернулся кузнец ни с чем…
Нашли Семёна только через два дня в Томкиной лощине, где он всегда брал глину для своих поделок. Первухин лежал на спине, поджав под себя ноги в грязных кирзовых сапогах, на дне глубокого окопа, вырытого в глине. В руках он держал двуствольное охотничье ружьё, которого раньше у него никто не видел. Танкистский шлем закрывал один глаз, другой был пугающе широко открыт. На мокрой от дождя гимнастёрке блестели медали.
Окоп он сделал добротно, с нишей, в которой лежали порожняя фляжка и перочинный нож. Из последнего укрытия Семён хорошо мог видеть просёлочную дорогу на летний сенокос. Заняв надёжную оборону, сержант принял здесь у деревни последний бой. Оба патрона он использовал. На близко подобравшуюся к бойцу смерть патрона не хватило…
Хоронили его всей деревней, закопав в этом же окопе, на два метра ближе к глиняному сердцу земли. Под неровной, кованной Вершининым, звездой Карп Степанович примостил алюминиевую пластину, на которой гвоздём выбил надпись: «Здесь погиб сержант Семён Первухин».

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.