Константин КЕДРОВ (1942-2025)
О Маяковском
Любить или не любить Маяковского – это отнюдь не вопрос свободного выбора. Я знаю много людей, которые хотели полюбить его поэзию и не смогли. Пастернак, например. И есть множество людей, которые изо дня в день убеждают себя и других, как плох Маяковский, но не могут отрешиться от его образа. Таков был Карабчиевский. Гораздо комфортнее чувствовали себя те, кому Маяковский был чужд. Среди них Ахматова. Она знала, что он гений, но его гениальность ей была не нужна.
Общепризнанный, но мало читаемый Хлебников обращался к нему сквозь время: «Кто там в звезды стучится? / А, Володя! / Дай пожму твое благородное копытце». Но стоило кому-то нашептать, что Маяковский замылил рукописи Хлебникова, и тот поверил, стал называть гения «негодяем». Сегодня рукописи нашли. Маяковский отдал их в надежные руки Романа Якобсона. А тот положил их в сейф и эмигрировал. Так что чего-чего, а клеветы вокруг Маяковского море разливанное.
«Море уходит спать. Море уходит вспять», – написал он незадолго до гибели. Конечно, он был морем. Даже океаном поэзии. «Кто над морем не философствовал?» Пушкинская простота, державинская торжественность, лермонтовский лиризм и трагизм не исчерпывают его палитру. Его образность не перекрыл никто. Напрасно пыжились Мариенгоф, Есенин, Шершеневич с их имажинизмом, бледным подобием футуризма. От их стихов не срываются гроба «шагать четверкою своих дубовых ножек». Это он сказал собачонке: «Из себя готов достать печенку. / На, не жалко, дорогая, ешь». Кто лучше Маяковского в трех строках рассказал о трагедии белого движения? «На колени упал главнокомандующий. / Трижды землю поцеловавши, / трижды город перекрестив. / – Ваше превосходительство, грести? / – Грести!» Это написано о заклятом и лютом враге, белом генерале. Что же говорить о друзьях. Друзьями были некие рабочие, которые лежат, подыхая, под старыми телегами и грезят про город-сад. Или вселяются в новый дом, где пол стелется «извиняюсь за выражение, пробковым матом». В конце короткой, 37-летней жизни он понял, с кем на самом деле имел дело, и написал о пролетарии пьесу «Клоп». Творец жизни, которому принесено столько жертв, оказался просто клопом. «Съезжалися к загсу трамваи. Там красная свадьба была». Ничего смешнее не читывал. Срифмовав «пролетария» с «планетарием», Маяковский лишь предсказал выползание клопа в космос. Его космическая утопия «Летающий пролетарий» предвосхищает фильмы ужасов.
До сих пор непонятно, превратил ли он человека в пароход или пароход в человека в известном стихе о застреленном дипкурьере Нетте. Сама фамилия Нетте со словом «нет» в начале отдает чем-то потусторонним. «Здравствуй, Нетте, как я рад, что ты живой». А ведь слышится совсем другое: «Как яр ад, что ты живой», да еще «дымной жизнью труб, канатов и крюков». Налицо все атрибуты ада. Конечно, ничего такого он не имел в виду. Просто подсознание, вернее язык, играет гением. Маяковский, как блаженный юродивый, «слизывал», по его словам, плевки чахотки шершавым языком плаката. Плакат ведь это тоже что-то вроде новой иконы.
Он хотел развочеловечить Господа. Превратить его из богочеловека в человековождя. Но и тут юродивая ухмылочка: «А народ сиди и жди, когда придумают вожди». Народ он увидел дважды. Первый раз, когда «улица присела и заорала: «Идемте жрать!» второй раз на похоронах своего божка. Не знаю, удалось ли гению каплею слиться с массою во всемирном оргазме, но проговорился он по крупному: «Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама ильичова смерть». Лучше не скажешь. Смерть как величайший и главный организатор и оргазмизатор социализма. В другой раз он назвал себя «ассенизатором и водовозом, и опять точнее не скажешь. Только гений мог превратить себя в отстойник всего пролетарского дерьма.
Все это мало вяжется, вернее, совсем не вяжется с жеманным серебряным веком, куда пытаются втиснуть и Маяковского. Там он смотрится, как Карабас среди Арлекинов и Пьеро. Побывав на корриде, он пожалел быка, но как пожалел! Хотел поместить между рогами пулемет, чтобы расстрелять эту орущую толпу. Таким быком был опять же он сам. Красное знамя социализма разъярило Маяковского до полной потери разума. Умнейший муж России превратился в загнанного быка, мычащего от боли свое гениальное «Простое, как мычание». Сантименты Маяковского в сочетание с показной и не показной грубостью раздражают всех. В этом он похож на Шекспира, у которая грубейшая ругань сочетается с нежностью и галантностью. У Маяковского это свойство умножено на сто. «В сто сорок солнц закат пылал…» Почему в 140, а не в 100 и не в 200? Потому что 140 ранит своей незавершенностью и избытком. Сорок – роковое число. «150 000 000» не произвело впечатления. 140 солнц производит. И еще почему «стена теней, ночей тюрьма под солнц двустволкой пала»? Два ствола – это солнце на закате и на рассвете. Оба стреляющие, пылающие светом. «Стихов и света кутерьма, сияй во что попало» – настоящее светопреставление, вернее, света представление.
Сегодня устарела любая риторика, будь то египетские гимны Осирису, оды Державина или р-р-революционные поэмы Маяковского. Устарела и лирика. На первый план выходят сюр, сарказм, абсурд и ирония. И здесь он опять гениален. «Землю попашут, попишут стихи». Или хрестоматийное: «Розовые лица, револьвер желт». Не то пародия, не то самопародия. Предвосхищение кича и постмодерна. Его, как Шекспира, в каждую эпоху будут читать по-новому. Героическая попытка сбросить Маяковского с мотоцикла современности успехом не увенчалась. Не удалось заменить его Хлебниковым, Пастернаком, Ахматовой. Сразу получалась какая-то подмена. Кукольный театр без Карабаса. Разумеется, Буратино, Пьеро, пудель Артемон и Мальвина весьма и весьма положительные. А Карабас очень даже отрицательный. Но именно он придает энергию действию. Убираете Карабаса, и репертуар рассыпается. По большому счету, Карабас и сам кукла. Гениальная кукла. А застрелившийся Карабас – это уже трагедия. «Мы идем сквозь револьверный лай» – одной этой строки достаточно, чтобы понять, что произошло.
Он написал лучшее стихотворение о лошади («Хорошее отношение к лошадям»), лучшее стихотворение о собаке («Как я сделался собакой»), лучшее стихотворение о солнце («Удивительное происшествие…»), лучшее стихотворение о скрипке («Скрипка и немножко нервно»). И он же: «Нежные, вы любовь на скрипки ложите. / Любовь на литавры ложит грубый». На литавры не получилось. Получилось – «издергалась, упрашивая». В двух словах вся каденция. Не упросил! Любовное трио Брик – Яковлева – Полонская обошлось без литавр, но не обошлось без револьверного лая. Точка пули была поставлена самим поэтом. Револьверный лай останется многоточием.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Маяковский-----------
– Тринадцатый апостол –
К юбилею Маяковского в Москву прибыла дочь поэта, профессор Нью-йоркского университета Патриция Томпсон. Она почему-то называет себя Еленой Владимировной и в доказательства своего происхождения демонстрирует по телевизору письмо поэта с приветствиям «двум Элли». Маму Патриции звали Элли Зигерт. В поэме «Маяковский начинается» поэт Николай Асеев писал: «Только ходят миссийки и версийки, / вихрем пыль дорожную крутя. / Будто где-то там, в далекой Мексике / от него затеряно дитя». Письмо к двум Элли не кажется убедительным доказательством, поскольку «Элли маленькую» зовут Патриция, а фамилии Томпсон и Зигерт никакого отношения к Маяковскому не имеют.
Тем не менее, вся эта история весьма трогательна. Маяковский единственный из русских поэтов ХХ века стал настоящим мировым мифом. Ни Бродский, ни Пастернак, а именно Маяковский. О нем слагали замечательные стихи и поэмы Пабло Неруда и Поль Элюар. Его до сих пор любят и проклинают на всех языках Америки и Европы. Детали его биографии становятся важнее стихов, а воспоминания его любовниц пользуются большей популярностью, чем тексты самого поэта. Монографии о Лиле Брик нарастают и умножаются с большей скоростью, чем книги о самом гении. Гений ли? Этот вопрос терзает творческую интеллигенцию, поскольку крылатая фраза Пушкина о несовместимости гения и злодейства никак не согласуется с обликом поэтического громилы, коим несомненно был Маяковский. Впрочем, и сам Пушкин вряд ли годится в святцы, что ни на йоту не уменьшает его таланта.
Все, что ставят сегодня в вину Маяковскому, можно в равной мере инкриминировать даже Пастернаку. Разве Борис Леонидович не написал семипудовые р-р-революционные поэмы «Лейтенант Шмидт» и «1905 год»? А «Высокая болезнь» с искренним прославлением «гения» Ленина? Не говоря уже о множестве стихов про колхозы и посевные. Их никто не помнит, но они есть.
Вся беда в том, что у Маяковского даже плохие вещи плохи гениально. Нельзя забыть соски Моссельпрома, коим износу нет, которые сам поэт сосал бы до старости лет. Самая противная поэма «Владимир Ильич Ленин», написанная явно на заказ, на сто порядков превосходит оду «К Фелице» Державина. В жанре восхваления власти и приспособленчества к ней Маяковский перекрыл самых льстивых классиков-одописцев. Что-то садо-мазохистское есть в строках «я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше». Тут дело не в Ленине, которому поклонялись, как богу, и Пастернак, и Мандельштам, а в чем-то другом. Оды Ленину писал и Есенин. Но «Капитан земли» жалок рядом с исповедью: «Двое в комнате: я и Ленин».
Маяковский, конечно, врал. Любой поэт плевать хотел на любого вождя и всегда чувствует себя или богом, или мессией. «Самого обыкновенного Евангелия тринадцатый апостол» несомненно был таковым. То есть Иудой. В начале века Христа предали все поэты, но все по-своему. Блок повел Спасителя впереди грабителей и убийц в поэме «Двенадцать». Маяковский до того кощунства не доходил, но ради красного словца мог устроить красную «евхаристию»: «Сильнее и чище нельзя причаститься к великому чувству по имени класс». Это вам не есенинское «Христово Тело выплевываю изо рта». Ради красного словца (во всех смыслах этого эпитета) поэт призывает «расстрелять Растрелли». Хуже, когда в провокационной анкетке, розданной писателям, он призывает расстрелять опального Пильняка. Впрочем, это, пожалуй, единственный случай, когда Маяковский совершает явную подлость. Все остальное вполне вписывается в эпоху. Поэтам нельзя в политику. Тут в любом случае ошибешься. Ранние богоборческие стихи и поэмы, где «перекрестком роспяты городовые» тоже написаны для красного словца. Ведь не рыдал же Маяковский на самом деле над участью распятых перекрестками городовых. И вовсе не любил смотреть, как умирают дети. Вернее, ни разу не видел и никогда не смотрел. Иногда ему казалось, что он «петух голландский или король псковский», а иногда ему просто своя фамилия нравилась – Маяковский. Он сам лучше всего о себе сказал. Рифма «изящно пляшу ли – шулер» автобиографична.
Он был тот самый ницшеанский плясун-сверхчеловек, слегка косящий под Маркса. Не открывал он Маркса каждый том, как в доме собственном мы открываем ставни. Про ставни надо уже объяснять, как и про Маркса. Ницшеанец, не читавший Ницше, тринадцатый апостол, не читавший Евангелия, марксист, диалектику учивший не по Гегелю и уж, конечно же, не по Марксу, ленинец по долгу службы и троцкист по призванию. «Чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем». Его единственной религией была «социализма великая ересь», и на нее ему в сущности было наплевать. Прикажи Лилечка, и он за один ее поцелуй продал бы Ленина, Сталина, Троцкого и Дзержинского со всеми потрохами. Лилечку он любил. Все остальное камуфляжи и прикрытия. Если Лилечка была его личным домашним Лениным-Сталиным-Троцким в одном лице, то Татьяна Яковлева чем-то вроде Бухарина. Эмигрантку, будущую миллионершу и меценатку он в стихах сделал «комсомолкой» и пообещал «взять» одну или вдвоем с Парижем. Не получилось ни то, ни другое. Вернее, одну однажды все-таки «взял».
Маяковский со всеми своими гениальными безвкусицами и нелепостями раздражал, раздражает и будет раздражать. Его, как и Пушкина, почти не читают, но бурно и яростно обсуждают и осуждают. Каждый юбилей – событие. Это он не о Ленине, а о себе сказал: «мы говорим эпоха, мы говорим эра». В отличие от Ленина, он проходя в двери, задел за все косяки и везде набил себе шишки. У него есть детская поэмка «Кем быть?» этакий упрощенный красный Гамлет, знающий ответ на вопрос, «что такое хорошо и что такое плохо». Кем быть – вместо быть или не быть. С кем вы, мастера физкультуры? Маяковский с Лилей, а Лиля с какими-то комдивами и чекистами. И в этом трагедия. Пушкин с Керн, а Керн с цензором Никитиным. Маяковский с Яковлевой, якобы комсомолкой, а та с миллионером. Маяковский с Поэзией, а Поэзия ни с кем и все-таки с Маяковским.
Иуда стал тринадцатым, когда его исключили, а на вакантное место назначили по жребию другого двенадцатого. Маяковского исключали и назначали при жизни и после смерти неоднократно. Двенадцатыми были и Блок, и Пастернак, и Есенин. Тринадцатое место всегда Маяковский


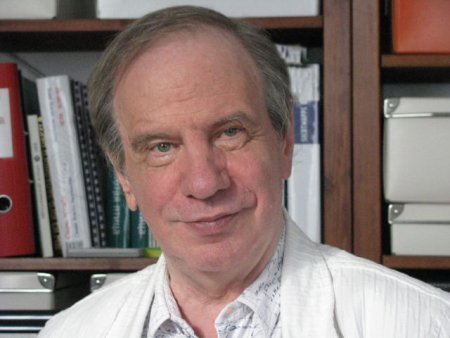
Комментарии 1
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.