Начало здесь
"О, поэт пленительнейших песен..." — писал М. Волошин об этом поэте .
Вся Россия была влюблена в Бальмонта. Его знали везде, от столичных светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилёвской губернии. Его читали, декламировали и пели с эстрады, кавалеры нашёптывали его стихи своим дамам, гимназистки переписывали их в тетрадки. Слава его была необычайна. Когда поэт шёл по улице, останавливались трамваи. И. Анненский называл его «королём нашей поэзии». И сам Бальмонт прекрасно сознавал это и знал себе цену. 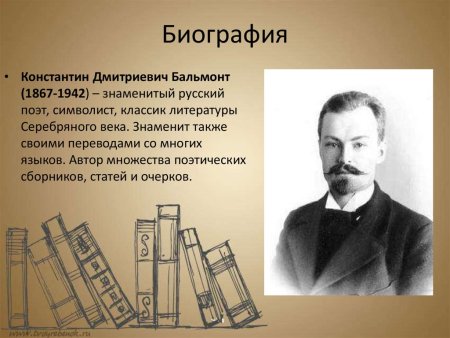
Я - тревожный призрак, я - стихийный гений,
В мире сновидений жить мне суждено,
Быть среди дыханья сказочных растений,
Видеть, как безмолвно спит морское дно...
«Я - стихийный гений», - сказано почти по-северянински, хотя Северянин появился несколько позже. Что-то в их самооценке было схожее.
Я — изысканность русской медлительной речи,
предо мной все другие поэты — предтечи... Это заявление на многие годы стало своего рода визитной карточкой Бальмонта.
Да, в этих стихах был намеренный вызов и эпатаж, но в общем-то приходится признать эту дерзкую самооценку верной в своей основе. Равных Бальмонту в искусстве стиха тогда в русской литературе не было. Даже такой требовательный и строгий критик, как Брюсов, писал в 1906 году: «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией».
Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт — истинный, вдохновенный поэт милостью божьей, а Брюсов свои стихи высижывает, вымучивает. Их воспринимали как своеобразных Моцарта и Сальери. Нельзя сказать, чтобы это мнение было безупречно верно. Просто Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно. Бальмонт раньше всех других декадентов добился всеобщего признания и любви. В чём же было очарование его стихов? Нежные, благоуханные строки, поющие как арфа. В них чувствовалось дуновение потустороннего мира, отголоски ангельского пения. Заводь спит. Молчит вода зеркальная.
Только там, где дремлют камыши,
Чья-то песня слышится, печальная,
Как последний вздох души. Это плачет лебедь умирающий,
Он с своим прошедшим говорит,
А на небе вечер догорающий
И горит и не горит... Его строки звучали магически, завораживали волшебной музыкой ритма: У Моря ночью, у Моря ночью
Темно и страшно. Хрустит песок.
О, как мне больно у Моря ночью.
Есть где-то счастье. Но путь далек...
Абстрактная мечта, иллюзорные поиски утешения в этом суровом мире, неопределённый призыв к чему-то светлому — всем этим брала, томила и пленяла поэзия Бальмонта.
Белый лебедь, лебедь чистый,
Сны твои всегда безмолвны,
Безмятежно-серебристый,
Ты скользишь, рождая волны. Под тобою — глубь немая,
Без привета, без ответа,
Но скользишь ты, утопая
В бездне воздуха и света... Символ нежности бесстрастной,
Недосказанной, несмелой,
Призрак женственно-прекрасный,
Лебедь чистый, лебедь белый! Но его поэзия могла быть не только сумеречно-меланхоличной, но и яркой, язычески чувственной, вызывающей: Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать! Или: Она отдалась без упрёка,
она целовала без слов... И это тоже - Бальмонт. Кто-то поморщится, посетует на недостаток вкуса, и будет прав. Многие стихи Бальмонта сейчас трудно читать без снисходительной улыбки — наивно, претенциозно, слащаво. Но тогда люди бредили этими строчками, упивались ими. Видимо, в них эпоха чувствовала наиболее полное выражение своих настроений.
«Никто не равен ему в его певучей силе», - писал Блок. Бальмонт пьян словами, он хмелеет от их звуковой красоты и гармонии. Он упоённо сплетает их в свои любимые «напевности», нанизывает ожерелье красивых аллитераций, звенит ими, играет — то флейта слышится, то фортепьяно... Зачарованный словами, загипнотизированный их певучей властью, Бальмонт отпускает поводья и отдаётся на волю звука как на волю ветра: Я вольный ветер, я вечно вею,
волную волны, ласкаю ивы,
в ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
лелею травы, лелею нивы... В этом смысле Бальмонт продолжает в русской поэзии линию, получившую своё классическое выражение у Фета. Именно о нём Чайковский сказал: «Фет сделал шаг в нашу сторону», то есть в сторону композиторов. О Бальмонте можно сказать то же самое.
Он называл свои стихи песнопениями. И в самом деле, вы только вслушайтесь, какая музыка: Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шёл, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали раздавались,
Вкруг меня раздавались от Небес и Земли... Бальмонту принадлежит своего рода рекорд: свыше 150 его стихотворений было положено на музыку. Рахманинов, Прокофьев, Стравинский, Глиэр, Мясковский создали романсы на его стихи. Альбатрос Поэзию Бальмонта нельзя назвать биографической. По его стихам почти невозможно проследить или домыслить судьбу поэта, его земную жизнь, как-то воссоздать его человеческий облик. Эти стихи переносят нас в особое измерение, далёкое от обыденности, в мир мечты, не имеющий точек соприкосновения с реальной жизнью.
Марина Цветаева как-то сказала, что если бы ей надо было определить Бальмонта одним словом, то она, не задумываясь, сказала бы о нём одно: «Поэт». Поэт в чистом виде. Она не сказала бы так ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни даже о Блоке. Ибо в каждом из них, кроме поэта, было ещё что-то. В Бальмонте же, кроме поэта, не было ничего. Он был Поэт, и этим всё было сказано. Даже домашние говорили о нём: «Поэт спит», «поэт вышел за папиросами», и всеми это воспринималось вполне естественно.
Из воспоминаний Н. Тэффи: "Ни к какому поэту не подходило так стихотворение Бодлера "Альбатрос", как к Бальмонту.
Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любуется ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья, и, смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе, под хохот и улюлюканье матросов... Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего обещанного гонорара, он называл "убийцей лебедей". Деньги называл "звенящие возможности".
- Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине, - говорил он своей жене Елене.
Как-то рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:
- Елена была еще в своем ночном лике.
"Звенящих возможностей" было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой, застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.
Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ним. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым, пошлым языком?
И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренно. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила "поэт".
Простая фраза "Муж просит пить" на их языке произносилась, как "Поэт желает утоляться влагой".
Это было с их стороны искренно и диктовалось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на "его" языке. "Бобо" - вместо больно, "баиньки" - вместо спать, "бяка" - вместо «плохой». Обычного языка простых смертных Бальмонт просто не воспринимал". Жизнь проходит — вечен сон.
Хорошо мне — я влюблён.
Жизнь проходит — сказка нет.
Хорошо мне — я поэт. Актриса Лидия Рындина вспоминала, как однажды она встретила Бальмонта на улице. Он шёл по мостовой с корзиночкой фиалок и раскидывал их на пути. Увидев её, смутился:
- Не смейся. Благовещенье, праздник весны, а видишь, какая скверность вокруг.
Он хотел забросать всю окружающую грязь фиалками. Он был поэтом и в жизни. То, что принималось людьми за чудачество, позёрство, актёрство, было для него органично, было его природой.
«Пока не требует поэта...» Бальмонта Аполлон всегда требовал, и он никогда не был «погружён в заботы суетного света». И «меж детей ничтожных мира» Бальмонт не только не был «ничтожней всех», но вообще меж ними не был и таковых не знал. Он, казалось, был незнаком с буднями жизни.
Цветаева пишет в «Слове о Бальмонте», что он всегда помогал ей, когда та нуждалась. При этом говорил: «Марина, я принёс тебе монету». Деньги для него были лишь монетой, до их цифрового обозначения он не снисходил. Бальмонт был выше всей этой презренной прозы.
«Бальмонт всегда отдавал мне последнее, - пишет Марина. - Не только мне — всем. Последнюю трубку, корку, полено, спичку. И не от жалости, а от великодушия. Поэт не может не дать. Но гораздо меньше он умел брать».
Парируя обвинения Бальмонта в высокопарности, Цветаева восклицала: «Да, он высокопарен в первородном смысле слова, он парит в высотах и не желает спускаться».
Бальмонт не жил, а, казалось, парил над землёй. И над его музой были не властны законы притяжения. Если к пропасти приду я,
заглядевшись на звезду,
буду падать, не жалея,
что на камни упаду. Подобно альбатросу с подрезанными крыльями, Бальмонт вне поэзии, при столкновении с реальной жизнью бывал на редкость беспомощным, смешным и нелепым. С ним часто случались комичные, забавные, курьёзные истории. Так, однажды в деревне он вдруг полез на сосну — прочитать всем ветрам свой лепестковый стих. Вскарабкавшись до вершины, сорвался, зацепившись за сук, повис вниз головой, взывая о помощи. За ним лазали и с опасностью для жизни спустили.
В другой раз Бальмонт, взволнованный отражением месяца в воде, ринулся за ним в волны. Он шёл за ним сначала по щиколотку, потом по колено, потом по грудь в воде, причём был в пальто, в шляпе и с тростью. Его стали звать, испугавшись за него, и тогда поэт, очнувшись, вернулся. Без месяца.
Господь, внемли, я плачу, я тоскую,
Тебе молюсь в вечерней мгле.
Зачем Ты даровал мне душу неземную
и приковал меня к земле? Это был вечный крик его души. «Почему я, такой нежный, должен все это видеть?» Брюсов находил объяснение и оправдание житейскому поведению Бальмонта в самой природе его поэзии: «Бальмонт переживает жизнь как поэт, и как только поэты могут её переживать, как дано это им одним: находя в каждой минуте всю полноту жизни. Поэтому его нельзя мерить общим аршином».
А Горький говорил о нём: «Дьявольски интересен и талантлив это неврастеник».
Бальмонт был не от мира сего. Мечтал: «Я хотел бы уехать туда, где изумительные цветы и упоительные волны океана, туда, где можно забыть, что человек — грубое и свирепое животное». Но куда же от этого уедешь? Я когда-то был сыном Земли,
Для меня маргаритки цвели,
Я во всём был похож на других,
Был в цепях заблуждений людских. Но, земную печаль разлюбив,
Разлучён я с колосьями нив,
Я ушёл от родимой межи,
За пределы — и правды, и лжи. И в душе не возникнет упрёк,
Я постиг в мимолётном намёк,
Я услышал таинственный зов,
Бесконечность немых голосов. Мне открылось, что Времени нет,
Что недвижны узоры планет,
Что Бессмертие к Смерти ведёт,
Что за Смертью Бессмертие ждёт. Известен рассказ Ахматовой, как на петербургской вечеринке Константин Бальмонт, наблюдая танцующую молодежь, азартно исполнявшую аргентинское танго, считавшееся тогда неприличным танцем, вздохнул: «Ну почему я, такой нежный, должен все это видеть?»
Эта фраза потом стала классической, вошла в обиход Ахматовой, и она по разным поводам часто её произносила. (Должна сказать, что и в нашей семье она теперь в ходу. Наш зомбо-ящик нередко даёт повод вспомнить этот беспомощно-наивный бальмонтовский возглас). Воспринимается она обычно в комическом ключе, хотя понять, конечно, поэта можно. Как он, такой тонкий, с нежной ранимой душой, с изысканными чувствами, должен был воспринимать этот жестокий безумный мир, что он мог противопоставить повседневной людской пошлости? Мне странно видеть лицо людское,
Я вижу взоры существ иных,
Со мною ветер, и всё морское,
Всё то, что чуждо для дум земных... Это была самозащита, попытка абстрагироваться от суеты сует, уйти в себя, в свой возвышенный мир. Со мною тени, за мною тени,
Я слышу сказку морских глубин,
Я царь над царством живых видений,
Всегда свободный, всегда один. Я слышу бурю, удары грома,
Пожары молний горят вдали,
Я вижу Остров, где всё знакомо,
Где я — владыка моей земли. В душе холодной мечты безмолвны,
Я слышу сердцем полёт времён,
Со мною волны, за мною волны,
Я вижу вечный — всё тот же — Сон. Харизма У Бальмонта была благородная внешность: волевое лицо с решительным подбородком и высоким лбом, рыжая заострённая бородка, зелёные глаза, густая золотистая копна волос — он их красил. Его писали лучшие художники того времени. Вот портрет работы Модеста Дурнова, сделанный гуашью в Париже. В нём подчёркнут трагизм судьбы и личности поэта. Здесь в лице Бальмонта нечто демоническое. Выдающаяся вперёд челюсть придаёт ему что-то нервное, жестокое, напоминающее Ивана Грозного. При этом он всегда носил цветок в петлице. В каждом из этих портретов отражена какая-то грань многогранной личности поэта.
Бальмонт очень нравился женщинам.
А. Белый писал, что когда Бальмонт выступал, он весь бывал обвешан дамами, точно бухарец, надевший 12 халатов: халат на халат. Вот эпизод, рассказанный Н. Тэффи: «Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.
Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес златой венец славы. Шея его была дважды обвернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темноликое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.
Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц - "жен мироносиц".
- Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите - и я сейчас же брошусь,- повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.
Обезумев от любви к поэту, она забыла, что "Бродячая собака" находится в подвале и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти и то с трудом и без всякой опасности для жизни.
Бальмонт отвечал презрительно: - Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.- Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале». Происхождение
Родился Константин Дмитриевич Бальмонт 15 июня 1867 года в селе Гумнищи Шуйского уезда под городом Шуя Владимирской области. Вот улица, где он жил, которая теперь носит его имя. Детство его протекало в родовом имении, в тесном общении с природой.
Природа Шуйских мест очень красивая, нашедшая позже отражение в стихах поэта. Есть в русской природе усталая нежность,
Безмолвная боль затаенной печали,
Безвыходность горя, безгласность, безбрежность,
Холодная высь, уходящие дали. Приди на рассвете на склон косогора,-
Над зябкой рекою дымится прохлада,
Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце не радо. Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомленье - глухое, немое. Войди на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада,-
Деревья так сумрачно-странно-безмолвны,
И сердцу так грустно, и сердце не радо. Как будто душа о желанном просила,
И сделали ей незаслуженно больно.
И сердце простило, но сердце застыло,
И плачет, и плачет, и плачет невольно. Предки его были выходцами не то из Скандинавии, не то из Шотландии. Это были моряки, переселившиеся в Россию. Прадед Бальмонта был херсонским помещиком и носил фамилию Баламут. (Фамилия, распространённая на Украине). По одной из версий, прадед отца Бальмонта Ян Балмутис переселился на Херсонщину из Литвы, украинизировав литовскую фамилию. Как Баламут потом трансформировалась в Бальмонт, установить не удалось. Потом кто-то переделал её на французский манер, с ударением на последнем слоге. Неясность происхождения породила путаницу в ударении, которое не подлежит грамматической регламентации. Сам Бальмонт считал, что правильнее произносить её с ударением на первом слоге, тем более, что фамилия эта литовская. Но потом из-за каприза одной женщины он стал произносить её с ударением на последнем слоге, поскольку ей так больше нравилось. Традиция закрепила это ударение, и так он и вошёл в историю поэзии, всё из-за того же каприза, Бальмонтом. И сам поэт, и его окружение называло его именно так. Первые книги В 1890 году Бальмонт выпустил свою первую книгу «Сборник стихотворений». Первые его стихи — это, в основном, перепевы Надсона и эпигонов некрасовской школы. Этот сборник не принёс ему успеха. Бальмонт уничтожил почти весь его тираж. Однако и в тех ещё неумелых и слабых подражательных вещах встречались стихи пронзительной силы и глубины. Например, как это: Уходит светлый май. Мой небосклон темнеет.
Пять быстрых лет пройдет, - мне минет тридцать лет.
Замолкнут соловьи, и холодом повеет,
И ясных вешних дней навек угаснет свет. И в свой черед придут дни, полные скитаний,
Дни, полные тоски, сомнений и борьбы,
Когда заноет грудь под тяжестью страданий,
Когда познаю гнет властительной судьбы. И что мне жизнь сулит? К какой отраде манит?
Быть может, даст любовь и счастие? О нет!
Она во всем солжет, она во всем обманет,
И поведет меня путем тернистых бед. И тем путем идя, быть может, падать стану,
Утрачу всех друзей, моей душе родных,
И, - что всего страшней, - быть может, перестану
Я верить в честь свою и в правду слов своих. Пусть так. Но я пойду вперед без колебанья -
И в знойный день, и в ночь, и в холод, и в грозу:
Хочу я усладить хоть чье-нибудь страданье,
Хочу я отереть хотя одну слезу! Следующая книга Бальмонта «Под северным небом» (1894) имеет эпиграфом строки из Ленау: «Вне страдания божественное недостижимо». И в этом суть этой книги. Поэт возвеличивает, поэтизирует страдание: Одна есть в мире красота -
любви, печали, отреченья
и добровольного мученья
за нас распятого Христа. Мир — это тюрьма, пустыня, болото, пещера, тьма, где человек обречён на страдания: В пещере угрюмой, под сводами скал,
Где светоч дневной никогда не сверкал,
Иду я на ощупь, не видно ни зги,
И гулко во тьме отдаются шаги. И кто-то со мною как будто идет,
Ведет в лабиринте вперед и вперед.
И, вскрикнув, я слышу, как тотчас вокруг
Ответный, стократный разносится звук. Скользя по уступам, иду без конца,
Невольно мне чудится очерк лица,
Невольно хочу я кого-то обнять,
Кого, - не могу и не смею понять. Но тщетно безумной томлюсь я тоской -
Лишь голые камни хватаю рукой,
Лишь чувствую сырость на влажной стене,
И ужас вливается в сердце ко мне. "Кто шепчет?" - кричу я. "Ты друг мне? Приди!"
И голос гремит и хохочет: "Иди!"
И в страхе кричу я: "Скажи мне, куда?"
И с хохотом голос гремит: "Никуда!" Бесплодно скитанье в пустыне земной,
Близнец мой, страданье, повсюду со мной.
Где выход, не знаю,- в пещере темно,
Все слито в одно роковое звено. («В пещере») И в этой безысходной тьме у поэта возникают утешительные иллюзии. Он ищет спасения в мечтах. Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.
Ожиданьем утомлённый, одинокий, оскорблённый,
Над пустыней полусонной умирающих морей,
Непохож на человека, я блуждаю век от века,
Век от века вижу волны, вижу брызги янтарей.
Ускользающая пена… Поминутная измена…
Жажда вырваться из плена, вновь изведать гнёт оков.
И в туманности далёкой, оскорблённый, одинокий,
Ищет гений светлоокий неизвестных берегов.
Кто услышал тайный ропот Вечности,
Для того беззвучен мир земной, —
Чья душа коснулась бесконечности,
Тот навек проникся тишиной.
Перед ним виденья сокровенные,
Вкруг него безбрежность светлых снов,
Легче тучек, тихие, мгновенные,
Легче грёзы, музыка без слов.
Он не будет жаждать избавления,
Он его нашёл на дне души, —
Это в Море час успокоения,
Это парус, дремлющий в тиши.
Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолетности я влагаю в стих.
В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой радужной игры.
Не кляните, мудрые. Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!
Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка.
И взоры жадные слились
В мечте, которой нет названья,
И нитью зыбкою сплелись,
Томясь, и не страшась признанья. Среди толпы, среди огней
Любовь росла и возрастала,
И скрипка, точно слившись с ней,
Дрожала, пела, и рыдала. Стихи Бальмонта так обаятельны, легки, гармоничны, что о нём отзывались как о «поэте весны», «поэте с утренней душой». Однако такая оценка не соответствует по крайней мере первым его четырём книгам. В них преобладали мрачные мотивы, призывы смерти, что было типично для символистов. Я устал. Весна поблекла.
С Небом порван мой завет.
Тридцать лет моих я прожил.
Больше молодости нет. Я в бесцельности блуждаю,
в беспредельности грущу,
И, утратив счет ошибкам,
больше Бога не ищу. Я хотел от сердца к Небу
перебросить светлый мост, —
Сердце прокляло созвездья,
сердце хочет лучших звезд. Что же мне еще осталось?
С каждым шагом холодеть?
И на все, что просит счастья,
с безучастием глядеть? О, последняя надежда,
свет измученной души,
Смерть, услада всех страданий,
Смерть, я жду тебя, спеши! Самоубийство Помимо эстетики символистов, болезненное состояние души поэта усугублялось тем, что он переживал в этот период мучительную личную драму. В 22 года Бальмонт женился на Ларисе Гарелиной, красавице боттичелевского типа, оказавшейся ревнивой неврастеничкой, пьющей, с тяжёлой наследственностью от родителей-алкоголиков. Это выяснилось уже во время свадебного путешествия. По словам Бальмонта, жена показала ему любовь «в демоническом лике, даже в дьявольском». Именно она пристрастила его к вину. Мне стыдно плоскости печальных приключений,
Вселенной жаждал я, а мой вампирный гений
Был просто женщиной, познавшей лишь одно,
Красивой женщиной, привыкшей пить вино.
Она так медленно раскидывала сети,
Мы веселились с ней, мы были с ней как дети,
Пронизан солнцем был ласкающий туман,
И я на шее вдруг почувствовал аркан.
И пьянство дикое, чумной порок России,
С непобедимостью властительной стихии,
Меня низринуло с лазурной высоты
В провалы низости, тоски, и нищеты.
Наследственность сказалась и на детях. Их первый ребёнок умер от воспаления мозга, второй — в юности — от душевной болезни.
Семейные неурядицы с их семейными сценами, бытовая неустроенность привели к тому, что 13 марта 1890 года Бальмонт, прочитав накануне «Крейцерову сонату» Л. Толстого, ходившую тогда по рукам в списках, решил покончить с собой и выбросился из окна 3 этажа на мощёный булыжный двор. Весь год Бальмонт провёл в постели, переломав руки и ноги. Этот случай он потом описал в рассказе «13 марта», - день, обозначенный в заглавии, был днём самоубийства.
«Когда, весь изломанный и разбитый, я лежал, - вспоминал Бальмонт, - очнувшись на холодной весенней земле, я увидел небо безгранично далёким и недоступным. Я понял в те минуты, что моя ошибка — двойная, что жизнь бесконечна». Этот эпизод стал его небом Аустерлица, прозрением, в корне изменившим его взгляды на жизнь. Он описал это в своём стихотворении «Воскресший»: Полуизломанный, разбитый,
С окровавленной головой,
Очнулся я на мостовой,
Лучами яркими облитой. Зачем я бросился в окно?
Ценою страшного паденья
Хотел купить освобожденье
От уз, наскучивших давно. Хотел убить змею печали,
Забыть позор погибших дней...
Но пять воздушных саженей
Моих надежд не оправдали. И вдруг открылось мне тогда,
Что все, что сделал я, - преступно.
И было Небо недоступно,
И высоко, как никогда. В себе унизив человека,
Я от своей ушел стези,
И вот лежал теперь в грязи,
Полурастоптанный калека. И сквозь столичный шум и гул,
Сквозь этот грохот безучастный
Ко мне донесся звук неясный:
Знакомый дух ко мне прильнул. И смутный шепот, замирая,
Вздыхал чуть слышно надо мной,
И был тот шепот - звук родной
Давно утраченного рая: "Ты не исполнил свой предел,
Ты захотел успокоенья,
Но нужно заслужить забвенье
Самозабвеньем чистых дел. Умри, когда отдашь ты жизни
Все то, что жизнь тебе дала,
Иди сквозь мрак земного зла,
К небесной радостной отчизне. Ты обманулся сам в себе
И в той, что льет теперь рыданья, -
Но это мелкие страданья.
Забудь. Служи иной судьбе. Душой отзывною страдая,
Страдай за мир, живи с людьми
И после - мой венец прими"...
Так говорила тень святая. То Смерть - владычица была,
Она явилась на мгновенье,
Дала мне жизни откровенье
И прочь - до времени - ушла. И новый, лучший день, алея,
Зажегся для меня во мгле.
И, прикоснувшися к земле,
Я встал с могуществом Антея. После падения Бальмонт стал слегка прихрамывать, что, по его мнению, роднило его с Байроном. Поэтому он даже подчёркивал свою хромоту. Впрочем, в его хромоту мало кто верил, ибо он прихрамывал то справа, то слева, а когда хорошенько выпивал, что с ним случалось постоянно, переставал хромать совершенно.
Излечившись физически, Бальмонт излечился и духовно, он чувствовал теперь, что никто больше не властен над его душой, кроме творческой мечты. В одном из стихотворений он скажет: «Мою мечту страданья пробудили». Именно с этого времени начинается буйный расцвет творчества Бальмонта, его славы. Быть как солнце В 1903 году выходят его сборники «Будем как солнце» и «Только любовь». Уже названия этих книг говорят о бурном всплеске жизнелюбия поэта. «Мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить», - эти его строчки можно было бы поставить эпиграфом к ним, таково было теперь его кредо. Бальмонт обращается с призывом к людям: «Будем как солнце!» Желание непомерное. Но непомерность желаний — это и есть поэт Константин Бальмонт. Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,
Будем лишь помнить, что вечно к иному,
К новому, к сильному, к доброму, к злому,
Ярко стремимся мы в сне золотом.
Будем молиться всегда неземному,
В нашем хотеньи земном! Это осанна свободе, любви, радости жизни, каждому её мгновению. К книге взят эпиграф из Анаксагора: «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце!», ставший и первой строкой сборника. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор. Я в этот мир пришел, чтоб видеть море
И пышный цвет долин.
Я заключил миры в едином взоре.
Я властелин. Я победил холодное забвенье,
Создав мечту мою.
Я каждый миг исполнен откровенья,
Всегда пою. Мою мечту страданья пробудили,
Но я любим за то.
Кто равен мне в моей певучей силе?
Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!
Тема солнца — в его победе над тьмой прошла через всё творчество Бальмонта. Книга «Будем как солнце» после её выхода воспринималась как революционная. Во время забастовок заглавие этого сборника брали в качестве революционных призывов, лозунгов. Он стал символом независимости и свободы.
Образ солнца стал знаком раздела и среди самих поэтов, которые разделились на два лагеря. Одни были за, то есть приветствовали солнечность поэзии, другие — против. За — заодно с Бальмонтом был Андрей Белый: «За солнцем, за солнцем, свободу любя, умчимся в простор голубой...» Его сборник «Золото в лазури» был посвящён Бальмонту.
За — был Николай Гумилёв, который в ранней юности испытал несомненное влияние творчества Бальмонта. И писал:
Гордый Бальмонт сладкозвучный созидал на диво миру
Из стихов своих блестящих разноцветные ковры.
Он вплетал в них радость солнца, блеск планетного эфира,
И любовь, и поцелуи - эти знойные миры...
А против была Зинаида Гиппиус и поэты, близкие её кругу. Гиппиус назвала свои терцины полемически: «Не будем как солнце!»
И в зрелые годы Бальмонт ценил и культивировал всю ту же непомерность, резкие пламенные тона: «Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь!» Его следующий сборник так и назывался: «Горящие здания».
Я спросил у свободного ветра,
Что мне сделать, чтоб быть молодым.
Мне ответил играющий ветер:
«Будь воздушным, как ветер, как дым!» Я спросил у могучего моря,
В чем великий завет бытия.
Мне ответило звучное море:
«Будь всегда полнозвучным, как я!» Я спросил у высокого солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило солнце,
Но душа услыхала: «Гори!» («Завет бытия»)
Бальмонт декларировал стихийность творчества, полную свободу творца, детскую отрешённость от правил и предписаний. Мера поэта — безмерность. Мысль поэта — безумие. Здесь он близок Цветаевой - «с этой безмерностью в мире мер». Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post304988567/ Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/242676.html |


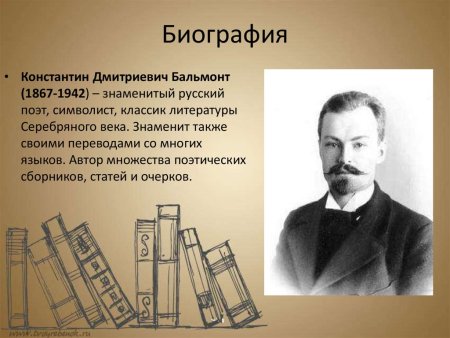
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.