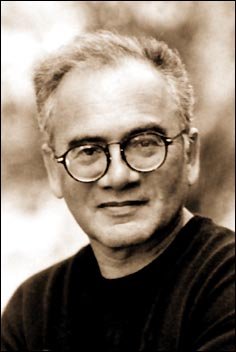

Есть в Петербурге районы, которые кажутся мне каруселями. Ты непременно должен сделать несколько кругов, проплывая мимо стайки домов или очередного сада – Юсуповского, Никольского, Троицкого, Смоленского… Сколько их?! Сегодня меня закружил Таврический сад. Странно: я просто сидела на скамейке и читала стихи Александра Кушнера, а сад кружил меня вокруг застывшего в белом облаке Сергея Есенина. А рядом на лошадках и осликах катались, уже прозрачные, поэты серебряного века… Через этот сад когда-то проходили на башню к Вячеславу Иванову Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилёв. У Александра Семёновича есть замечательные строчки по этому поводу:
Распушились листочки весенние,
Словно по Достоевскому, клейки.
Пусть один из вас сердцебиение
Переждет на садовой скамейке.
Знаю, знаю, куда вы торопитесь,
По какой заготовке домашней,
Соответственно списку и описи
Сладкопевца, глядящего с башни.
Мизантропы, провидцы, причудники,
Предсказавшие ночь мировую,
Увязался б за вами, да в спутники
Вам себя предложить не рискую…
А потом…потом мне открыла дверь муза Поэта (нужно ли говорить о полученной в 2005-м премии «Поэт»?) – прекрасная, светлая, какой и подобает быть Музе. Ещё помню тапочки, обувать которые казалось излишней тратой времени, книжные полки, диван в кабинете, а напротив – тоже светлый и внимательный взгляд настоящего поэта.
Н.Р. Александр Семёнович, Вы не раз встречались с Анной Ахматовой. Скажите, что Вас больше всего поражало в её облике?
А.К. Поражала, наверное, величественность, важность, многозначительность. Конечно, в ней был виден человек серебряного века, – с её царственными жестами, с её интонацией, голосом… Как выясняется из мемуаров, всё это было свойственно Ахматовой и в молодости тоже. И в то же время должен признаться, что эта её величавость была несколько театральной, и меня при редких встречах, пожалуй, подавляла. Наверное, поэтому я был у неё всего четыре или пять раз. Ну, и отнимать у неё драгоценное время мне тоже было неловко.
Н.Р. Показывали Ахматовой свои стихи?
А.К. Да, я показывал свои стихи Ахматовой. Она их одобрила и в первый, и во второй раз, и в третий, но, безусловно, предпочитала Бродского. Поздняя Ахматова, на мой взгляд, ориентировалась, как ни странно, уже не на акмеизм, не на предметность и конкретность, а на символизм с его несколько расплывчатым и высокопарным словом. Считалось в десятые годы, что она его «преодолела», но к старости она к нему неожиданно приблизилась, как сказал бы Баратынский, «под веяньем возвратных сновидений». Её в это время волновали «величие замысла», крупномасштабные поэтические построения, поэмы с их большим развёрнутым сюжетом.
Н.Р. Ахматова сдержанные оценки давала стихам молодых поэтов?
А.К. Ей вообще была свойственна сдержанная манера, и мне это нравилось. По поводу моих стихов, услышав их впервые, сказала: «Очень хорошо. У Вас поэтическое воображение». И всё (смеётся). Впрочем, Лидия Гинзбург, прекрасный филолог и писатель, приведшая меня к ней, объяснила, что Ахматова ей жаловалась: когда приходят молодые поэты, она себя нередко чувствует врачом, вынужденным говорить: рак, рак, рак. Спасибо, – подумал я, – что не это. Потом Ахматова похвалила как-то мои стихи и Лидии Корнеевне Чуковской: об этом есть запись в её воспоминаниях. Но я не преувеличиваю интерес Ахматовой ко мне: к ней тогда приходили Бродский, Найман, Бобышев, Рейн, и ей было не до меня. Ну, и вообще от человека её возраста трудно ждать восторгов. Эти восторги совершенно ни к чему.
Н.Р. А Вы тоже даёте сдержанные оценки стихам молодых?
А.К. Нет, не сдержанные. Я бы так не сказал. Когда мне очень нравятся стихи, я, наоборот, горячусь и стараюсь всячески приободрить человека, но это редко бывает, к сожалению.
Н.Р. Вы бы смогли бросить вызов власти и написать нечто наподобие ахматовскому «Реквиему»?
А.К. Видите ли, «Реквием» был написан совсем в иное время и по другому, действительно страшному, поводу. Я знал о трагической судьбе Ахматовой, и «Реквием» свой (по её словам – «14 молитв») она мне дала прочесть во время одной из наших встреч. И, конечно же, я прекрасно знал о судьбе Мандельштама, Цветаевой… А печальная и страшная трагедия Пастернака в связи с «Доктором Живаго» разворачивалась на наших глазах. Наше поколение куда счастливей. Что касается стихов, не подходящих для печати, их было немало, – они лежали в столе, и я не особенно горевал по этому поводу. А когда пробовал всё-таки их пристроить в журнал, случались неприятности, как, например, со стихотворением «Аполлон в снегу», когда на меня обрушился Ленинградский обком в лице товарища Романова. И не только это. Можно вспомнить, например, грозную статью в газете «Правда» накануне перестройки – о моих стихах.
И всё-таки антисоветские, прямые и непримиримые стихи меня не слишком привлекали: я не люблю в стихах публицистики. И так называемая гражданственность мне ни к чему: я думаю, что отношение поэта к власти, к существующему строю, режиму, вообще к тирании можно почувствовать, понять по любым его стихам, даже по его «пейзажной» или «любовной» лирике. Допустим, читая стихи Пастернака, хотя бы его книгу «Сестра моя – жизнь» или стихи Кузмина из «Форели», понимаешь, как прекрасны эти поэты, и как им должна быть отвратительна самодовольная, ничем не ограниченная власть.
Н.Р. Александр Семёнович, у Вас есть стихотворение, которое начинается словами: «Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом…». Дальше идёт признание в нелюбви к арабам, евреям, англичанам, немцам, итальянцам, русским, испанцам, северным и южным народностям и прочим. Последние строчки более чем остроумны: «Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу, Отвечал: ни к какому. Любил природу». Не было ли претензий со стороны читателей?
А.К. Понимаете, всё-таки читатель, во всяком случае, мой читатель, понимает, что это не издевательство над национальностями, что это смешные стихи. Я очень люблю юмор в стихах. Но есть в стихотворении и вполне серьёзная мысль о том, что человека нужно судить не по его национальности, не по крови, а по тому, что он собой представляет. Важен конкретный человек, и Бог, если он есть, обращается не сразу ко всем, а к каждому из нас отдельно, меньше всего думая о «душе народа».
Н.Р. Вас называют «самым петербургским» поэтом второй половины ХХ века. Вы могли бы назвать пять эпитетов, которые ярче всего характеризуют Ваш родной город?
А.К. (смеётся). За меня это сделали и Пушкин, и Мандельштам. «Люблю твой строгий, стройный вид», – вот Вам уже два эпитета, да? Помните у Мандельштама: «Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый»? Вот Вам уже шесть эпитетов.
Н.Р. Какие места в Петербурге для Вас особенно значимы?
А.К. Для меня? Я люблю весь город, даже его новые окраины, потому что небо над ними всё то же. Как там, у Блока – «Петроградское небо мутилось дождём»? Я люблю не только его парадную сторону, хотя очень люблю Неву, Мойку, есть у меня и стихи: «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки…» или «На петербургских старинных гравюрах…», например. Но люблю и рабочие его кварталы, те, которые нравились, между прочим, Блоку. Вот эти краснокирпичные фабрики, напоминающие Англию, – Бирмингем или Манчестер. Люблю также петербургские малоизвестные места. Вот у меня есть стихотворение «Сон» ещё 60-х годов:
Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный.
Стачек, Трефолева... стой!
Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять…
И так далее. Там мой трамвай, как шарик в детском лабиринте, кружится по этим питерским закоулкам. Петербург – это большой мир, а не просто город, даже что-то подобное Вселенной. Впрочем, все эти имперские или просто большие города, как Париж, Лондон, Рим, обладают таким свойством.
Н.Р. А храмы любимые у Вас есть?
А.К. Казанский собор я люблю больше других. Мне очень нравится, что Воронихин явно отталкивался от собора Святого Петра в Риме, но наш Казанский тем прелестен, что он не подавляет своей огромностью, а так пропорционально сложен. И еще, конечно, Смольный собор Растрелли, сине-белый, барочный, похожий на морской прибой.
Н.Р. Александр Семёнович, Вы очень много путешествуете. Вам симпатичен образ поэта-скитальца, поэта-странника?
А.К. (смеётся). Нет, я себя не причисляю к ним никак. Это Байрон, это Китс, это Шелли так возлюбили скитания, путешествия. Ну, и потом наш Батюшков безусловно. А я не скитаюсь по свету, а езжу, навёрстываю упущенное, потому что в советское время меня никуда не выпускали. Есть потребность в том, чтобы глаза получали какую-то новую пищу и радость в связи с этим. Один из любимейших городов, конечно, Венеция. Я там был семь раз, и всё время удивляюсь своему счастью.
Н.Р. Скажите, а есть ли отличия Петербурга Достоевского от Петербурга Кушнера?
А.К. Безусловно... Достоевский – не мой любимый писатель. Я предпочитаю Пушкина и Блока. Но город Достоевского, город Некрасова существует, конечно. И я его знаю, и он необходим Петербургу. Вот – из стихов о Некрасове:
Слово "нервный" сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музы нервозной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его жёлчном трёхсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счёт от модистки, и слёзы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти нервозы
Объясняются болью за всех…
Или ещё – о старых петербургских гравюрах:
..Мойка, Фонтанка, Мильонная, Невский…
Улиц, где мог бы гулять Достоевский,
Нет. Значит, может не быть
Этих горячечных снов, преступлений?
Или, как дом, запланирован гений:
Строить здесь будут и рыть.
И этот Петербург тоже не выходит из поля моего зрения.
Н.Р. Можете сказать пару слов о Вашем отношении к французской поэзии? Недавно в Швейцарии я спросила о ней у одного интересного человека из французской части страны. Он отозвался очень сухо, назвал её рационалистической и не могущей вызывать восторженные чувства. Разделяете такое мнение?
А.К. Я понимаю Вашего собеседника, есть резон в том, что он сказал. И всё-таки это не вполне верно. Ну, какой же Верлен рационалист? Ничего подобного. Другое дело – французская поэзия более позднего времени. Или вспомним нашего Гумилёва: он отталкивался от Теофиля Готье и был рационален, стихи писал, словно по линейке. Но не все французы таковы. А Малларме какой сложный поэт, почти непереводимый!
Н.Р. У Вас есть из зарубежных поэтов особенно любимые?
А.К. Да, англичанин Филип Ларкин.
Н.Р. Которого Вы переводили.
А.К. Филип Ларкин, которого я переводил. Когда я это делал, мне казалось, что он какой-то мой (странно сказать) двоюродный брат. Он очень точен, предметен, оригинален и не высокомерен, а снисходителен, прост и внимателен к чужой жизни.
Н.Р. А кто был Вашим любимым поэтом в детстве?
А.К. В школьном детстве Пушкин и Лермонтов, разумеется. Но и Гомера мне читал отец – в переводах Жуковского и Гнедича. А в раннем детстве – Корней Чуковский, Самуил Маршак.
Н.Р. Александр Семёнович, Вы недавно были почётным гостем на фестивале «Литературная Вена – 2011». Поделитесь впечатлениями?
А.К. Там было выступление перед университетской аудиторией, задавались вопросы… Вместе со мной там были Олег Чухонцев, Сергей Чупринин в качестве критика. Хорошая компания, и выступать было приятно, тем более что поначалу нас привели в один из университетских корпусов и показали маленькую, тесную комнатку, которая служила кабинетом молодому Фрейду. Это клетушка с одним окном, из которого открывался вид на какое-то круглое, страшноватое здание с бойницами окон. Что-то ван-гоговское померещилось в нём. Так и есть. Оказалось, что это бывший сумасшедший дом. И тогда начинаешь понимать, что Фрейд не так плох, как об этом говорил Набоков, что он действительно старался облегчить участь несчастных людей, и за его идеями стоит сострадание к людям. Лучше «кушетка» Фрейда, чем кулаки надзирателя и смирительная рубашка.
Было также выступление перед русской публикой, живущей в Вене.
Н.Р. Признайтесь, пишете ли Вы стихи, врывающиеся на лист бумаги из самой большой трещины трагического бытия? Не отталкиваете такие?
А.К. Жизнь трагична. Кто же этого не знает? Приведу один пример. Несколько десятилетий назад я написал стихотворение, из которого злонамеренные критики выдёргивали две последние строки и приписывали мне на их основании скрытый спор с Бродским, к которому эти стихи не имели никакого отношения. Прочту их:
В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.
И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.
Так вот, две последние строки никак нельзя оторвать здесь от общего трагического смысла этого стихотворения. В нём я говорю о тяготах и бедах своей тогдашней жизни, и понятно, что эти строки надо воспринимать в контексте всего стихотворения, а оно как раз о горе и страдании. Но в то же время я не люблю нытья в стихах. И для меня замечательными примерами служат и Пастернак, и Мандельштам, обходившиеся без него. Если сравнивать нашу жизнь с судьбой Мандельштама, то просто стыдно становится за молодых поэтов, которые уже в двадцать лет плачут и стенают.
Н.Р. У Вас каждые десять лет выходит где-то по три книги новых стихов. Это случайность?
А.К. Да, так было и раньше: в 60-е, 70-е… Я думаю, что эту закономерность очень легко объяснить – просто за десять лет набираются стихи как раз для трёх книг. Только и всего.
Н.Р. Пробовали давать какие-то определения своему творческому методу? Хотя бы приблизительные.
А.К. Разумеется, для меня какие-то акмеистические основы очень важны. Прежде всего, Мандельштам и ранняя Ахматова. Ну, и Пастернак невероятно предметен, подробен, хотя в его стихах нередко всё перепутано и случайно, но он прелестен по-своему. Я люблю и Мандельштама, и Пастернака, а ещё больше – Анненского... Мне трудно давать характеристику своим стихам. Это не моё дело.
Н.Р. Вы можете назвать одно, самое любимое, стихотворение Пастернака?
А.К. Нет, самого любимого не могу назвать. Я люблю и «Сестру мою – жизнь», и «Темы и вариации», и «Второе рождение», а из поздних стихов очень дорожу «Августом» и «Вакханалией». К одному стихотворению свести моего Пастернака никак не возможно.
Н.Р. Ваша супруга Елена Невзглядова – довольно известный литературовед, кандидат филологических наук. Я с удовольствием читаю её работы по проблемам стихотворного языка. Были у неё попытки анализа Ваших стихов?
А.К. Да, у неё была статья о моих стихах в книге «Звук и смысл» (1998), и мне эта статья о моей книге «Таврический сад» (1984) кажется до сих пор одной из самых удачных. Она обратила внимание на интонационное своеобразие и новизну моих стихов, ведь интонация – душа стихотворения. Кроме того, Елена Всеволодовна – постоянный слушатель моих стихов, и я прислушиваюсь к её мнению. Наконец, она и сама пишет стихи, и я – их первый слушатель.
Н.Р. Александр Семёнович, Вы от критиков многого натерпелись?
А.К. Ещё бы! Натерпелся всякого и в советское время, и в нынешнее. Но сегодня я не предаю этому прежнего значения. Возраст позволяет смотреть на многое по-другому, насмешливо и снисходительно.
Н.Р. Какие Вы можете назвать известные литературные журналы из российских, которые и по сей день сохраняют свою авторитетность?
А.К. Ни один журнал не сохранил своих прежних больших тиражей, но есть журналы, которые, кажется, стали лучше. Такова петербургская «Звезда». Её соредакторы Арьев и Гордин – люди образованные, культурные, талантливые и хорошо ведут журнал.
Н.Р. У Вас остались какие-то яркие впечатления от работы учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодёжи?
А.К. Конечно, остались впечатления, а главное, я и сегодня считаю, что у поэта должна быть профессия, что нельзя только писать стихи. Это можно было в девятнадцатом веке, когда были крепостные крестьяне. Но я, во-первых, не хотел бы иметь крепостных крестьян, а во-вторых, очень важно для поэта вставать рано утром, ехать на работу в трамвае или автобусе и знать, что такое педагогический или, допустим, медицинский или инженерный коллектив, и просто видеть, как устроена нормальная человеческая жизнь.
Н.Р. Поддерживаете отношения с кем-то из воспитанников?
А.К. Нет, ведь это было сорок с лишним лет назад. Но я поддерживаю отношения с поэтами, посещавшими моё литобъединение в 70-е, 80-е, 90-е годы и позже.
Н.Р. Александр Семёнович, Вы в молодости участвовали в литобъединении при Горном институте. Это участие было плодотворным?
А.К. Конечно. Прежде всего, оно мне предоставило литературную среду. В юности, в молодости очень важно, чтобы рядом с тобой были пишущие люди, с которыми можно сличить, сверить, сопоставить сделанное тобой и услышать чужое мнение о твоих стихах. Работать одному очень трудно. И недаром, допустим, вокруг Гумилёва толпилось множество молодых поэтов – они были заинтересованы в его внимании, в его подсказке. Кроме того, и Мандельштам, и Ахматова были рядом с ним, – и вместе они создали своё новое направление в поэзии.
Н.Р. А как Вы рассматриваете свободу, которую Бог дал человеку: как Дар или как Наказание? Ведь человек чаще всего совсем не умеет ею пользоваться.
А.К. Всё-таки замечательно, что у человека есть выбор. Иначе мы бы ничего не создали: ни музыки, ни живописи, ни стихов, ни науки. Не было бы ни той жизни, которую мы ведём, ни той любви и так далее. Зачем же быть подневольным существом?
Н.Р. Почему Вы назвали свою последнюю по времени книгу, которая была признана лучшей в номинации «Поэзия года» - 2011, «По эту сторону таинственной черты»?
А.К. Потому что мы живем по эту сторону таинственной черты, а что делается по ту, не знаем. Кроме того, именно с этой строки начинается одно из моих стихотворений.
Н.Р. А приходится чувствовать поддержку своих близких с «той стороны таинственной черты»?
А.К. Ну, иногда может так показаться – скажу осторожно. Мне чрезвычайно дорога и мифология, и Библия, и Евангелие, и самые разные древние поверья и представления. Они очень поэтичны, необходимы, и невозможно себе представить поэзию без берегов Леты или без рая – дантовского или какого-либо ещё. Но всё-таки время от времени надо себя одёргивать. Можно посмотреть на эти вещи и другими глазами. Скажем так – чеховскими. Он не очень-то был уверен в бессмертии души – недаром был врачом. Подозревал, что там ничего нет. И вообще сомнение – такое понятное свойство в этом мире с его кровопролитными войнами, Освенцимом, сталинским Гулагом и т.д. Да и в более благоприятные времена Пушкин писал: «Мой ум упорствует, Надежду презирает: Ничтожество меня за гробом ожидает…», а Вяземский: «От смерти только смерти жду»…
Вообще отношения человека с Богом – это всё-таки интимное дело.
Н.Р. Как Вы расцениваете экклезиастовское рассуждение о том, что «Всё – суета сует» ("Vanitas vanitatum et omnia vanitas”) и «Что было, то и будет, и что творилось, то творится, и нет ничего нового под солнцем»?
А.К. У меня даже есть стихи по этому поводу, вошедшие в книгу «Летучая гряда»:
Я, единственный, может быть, из живущих
И когда-либо живших, с умнейшим спорю
И насчет суеты, и насчет бегущих
Дней, бесследно и быстро, как реки к морю,
Череда золотая лугов цветущих,
Комнат, пляжей, оврагов, аудиторий.
Всё-таки есть некое прибавление объёма, «комнат, пляжей, аудиторий», хороши бы мы были хотя бы без зубной пасты и зубных врачей! Я дорожу цивилизацией, потому что… Далеко за примером ходить не надо. Представим себе Петербург девятнадцатого века. Это вонь ассенизаторских телег, это отсутствие лифтов, необходимых вещей, которые мы называем «удобствами», отсутствие гигиены, чистой воды, общественного транспорта и так далее. И у меня есть стихотворение, которое начинается словами: «Вам не понравился бы Петербург десятых годов, не знаете вы ничего о нем! Повсюду дворники с навозом на лопатах, Что измельчен в труху и ходит ходуном». Даже десятых годов, не говоря о середине или начале позапрошлого века! Сегодняшний город, при всех наших претензиях и недовольствах, несравненно лучше, чем прежний.
Н.Р. Вам не кажется, что время стало убыстрять свой ход? Оно во времена Александра Кушнера быстрее течёт, чем во времена Александра Пушкина?
А.К. Нет-нет. Помните Феклушу в «Грозе», которая считала, что время умаляется? Мы в школе это проходили. И я не хочу ей уподобиться. Я считаю, что время обладает замечательным свойством растягиваться и сжиматься множество раз в течение жизни каждого человека. И каждый может сказать: «Ах, как оно долго тянется!» или наоборот: «Как быстро мчится!».
Н.Р. Мне вот интересно: Вы случайно не присутствовали на вручении Нобелевской премии Вашему другу Иосифу Бродскому?
А.К. Нет, конечно, никто меня в Стокгольм не приглашал. Мы встретились с ним после долгого перерыва в 1987 году в Соединённых Штатах, куда я попал впервые. А он как раз вернулся из Стокгольма. И я мог его поздравить с этой премией. В те дни впервые видел Бродского счастливым.
Н.Р. У Вас есть одно из поэтических определений души: «То, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Прокомментируйте его, пожалуйста.
А.К. Я всё-таки думаю, что человек с возрастом, помимо накопления какого-то опыта, знаний, всё-таки ещё выращивает в себе сочувствие к людям и внимание к ним в большей степени, чем в юности. Юность прекрасна, но несколько эгоистична, самодовольна. В юности думал, что я очень хороший человек. Почему я так думал, не знаю. Но я был в этом абсолютно уверен. Сейчас у меня на этот счёт есть сомнения, потому что жизнь – это не прямая дорога: ты задеваешь других людей, приносишь им огорчения… «И оглянувшись, весь в слезах, Ты видишь: рядом кто-то плачет». Каждый знает это по себе. Может быть, со временем душа становится мягче, лучше.
Н.Р. Александр Семёнович, может, дадите какое-то напутствие молодым начинающим поэтам?
А.К. Нет-нет-нет. Я напутствий никому никогда не даю по той простой причине, что не люблю учительства. Вот потому мне ещё и дорог Чехов, что он сторонился этого, стеснялся. А в Гоголе, Толстом, при всей моей любви к ним, учительство меня раздражает. Учительство – это гордыня. А Чехов был скромен, – и это так прекрасно! Пушкин, кстати сказать, при всей его гениальности, тоже сторонился поучений и дидактики.
Н.Р. Тогда просто пожелание.
А.К. Что можно пожелать? Хороших стихов.
Беседовала Наталья РОМАНОВА.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.