
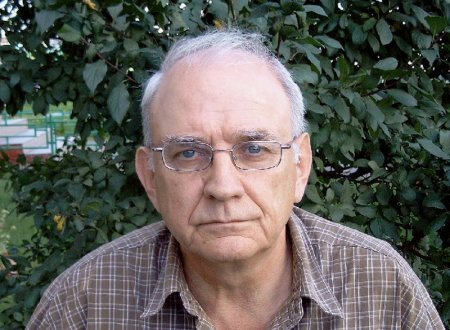
рассказ
У гостиницы "Сокол" в Чапаевском переулке в жаркий день я сел в тени деревьев с банкой пива. Было одиноко и приятно. Пиво было холодное, и я не спешил его пить, ожидая, когда оно немного согреется. Я его взял прямо из холодильника в магазинчике на 3-й Песчаной улице, возле стадиона ЦСКА, теперь закрытого, но, вроде бы, по слухам, строящегося. Хотя строительства я там не заметил. Я сидел в каком-то умилительном состоянии прострации. За спиной возвышался новый небоскреб со шпилем в стиле сталинских высоток.
Через некоторое время на скамью рядом с моей скамьей, их под тенью деревьев было две, сели двое пожилых людей, один из которых был с солидным портфелем. Они говорили в той тональности, которая присуща воспоминаниям. С традиционным классическим: "А помнишь?!"
Воспоминания их сводились, примерно, к следующему.
Надо прямо сказать, и так считают многие, что Эдик Фридман был из плохой семьи. Разумеется, и об этом надо говорить в полный голос, говорить честно и открыто всем, глядя, не моргая, прямо в глаза, что бывают ребята и из хороших семей. Даже очень хороших семей. И не надо спорить, товарищи! Бывают. Например, Витька Чугуев происходил по всем параметрам думающих одинаково людей из хорошей семьи. А, повторимся, чтобы не было разночтений, чтобы не было двух мнений, чтобы было ясно и так, Эдик Фридман из плохой.
Если погружать их в социальную атмосферу тех лет, то можно сказать, что они были послевоенными ребятами. Посмотрите-ка как следует, как смотрят в отделе кадров, внимательно посмотрите на них. Вы знаете, что они из себя на самом деле, при самом пристальном, а иного в стране победителей и невозможно представить, взгляде представляют?
Невысокий и полноватый отец Эдика Фридмана не спеша, даже вальяжно, с чувством, с толком, с расстановкой ходил по вверенному ему складу в синем халате, в чёрном, модном тогда берете с пипочкой на макушке, и уверенно, одним росчерком, отработанно подписывал химическим карандашом накладные, сразу три экземпляра под копирку. И деловито засовывал, откинув полу халата, чуть склонившись в сторону, подогнув немного одно колено, а вторую ногу почти вытянув, в карман просторных, сшитых на талию по заказу в ателье бостоновых, темно-синих в белую тончайшую полоску, с манжетами внизу брюк очередную сотню. Ну, сразу именно вот по этому действию было совершенно ясно видно, что перед нами во всей своей неприглядной красе предстал очень плохой человек, если он так уверенно, без всякой оглядки, не стесняясь ни стен, ни стеллажей, ни самого товара, ни кладовщиков, ни рабочих, ни курьеров, ни заказчиков, ни партии, ни правительства, берет взятки. А без этого на огромном складе промтоваров, где, как говорится, есть всё, что душе советского человека угодно, к нему даже и не подходи, не приближайся, не увидит тебя своими выпученными глазами, как будто сквозь многослойные линзы увеличенные. Будет смотреть на тебя как сквозь стекло, и не видеть.
Отец же Витьки Чугуева работал мясником в мясном отделе продовольственного магазина, и приходил всегда домой пьяным, но с мясом. Мать несла мясо на общую кухню, и кричала там на соседок:
- Ну, чего зенки вылупили?! Завидно, сучкам, что едим мы как прынцы!
Лицо её толстое, со щеками, видными со спины, при этом светилось одновременно торжествующей и издевательской улыбкой, почти счастьем, только таким образом и понимаемым.
- Мы тебе глаза выцарапаем, лахудра! - отвечала востроносая жена милиционера Полинка.
Жена мясника не отвечала ей, побаивалась. Но в сторону других на общей кухне визжала:
- Я вам дусту в щи насыплю!
И убегала. И прибегая в комнату, всех колготила.
На мать:
- Ну что ты всё умираешь, когда же ты умрешь?!
Мать издавала нечленораздельные звуки.
- Десятый год всё помираешь, и всё никак не порешь! - кричала жена мясника на свою мать.
Она всё время кричала, даже когда была спокойна, всё равно кричала. Кричала на детей, кричала на мужа. Муж привык, он не брал её в расчет, как будто её и вовсе не было. Шумела, ну и шуми. Потому что порог крика она не переступала и никакого другого вреда от жены, кроме шума, мясник не испытывал.
И сразу забывала скандал. И все хозяйки забывали. Это у них такая игра на общей кухне была - скандал. Поорут вдоволь, до красноты щёк и лба, и разбегутся. А голосовать за блок коммунистов и беспартийных в сталинский Верховный совет ходят дружно и мирно, чуть ли не строем, как и весь советский народ.
Семья Витьки Чугуева жила в пятнадцатиметровой комнате всемером. Девяностолетняя бабка, мать матери, умирала уже девятый год за занавеской. Изредка оттуда доносились непонятные слова, вроде:
- Нешто индо как-нито дажесть...
Сестренка старшая выглядела самой младшей, потому что никак не вырастала, хотя голова у неё была большая и без волос. Ей уже было семнадцать лет, а ручки и ножки у нее были крохотные, как у новорожденной. Она не умела говорить, глаза смотрели в разные стороны, и какала под себя. Другие, вроде, все были нормальные, помоложе Витьки Чугуева, кричали, бегали, учились, и, конечно, ели мясо, варёное и жареное, прокрученное в котлетах, а по праздникам в пирожках, которые мять пекла умело. Еще бы, она ведь была матерью в хорошей семье!
Эдику Фридману не исполнилось и пятнадцати лет, когда он пошел работать на завод.
- Чтобы делать гешефт, надо замаскироваться под рабочего, - наставлял Эдика Фридмана отец.
Ну, скажите на милость, разве может в хорошей семье отец делать из сына лицемера?! А ведь и сам отец весь излицемерился. Прикидывается рубахой-парнем. Выпивает с кладовщиками и с рабочими, и не из рюмок, а из простых стаканов, и закусывает огурцом или селедкой с черным хлебом.
А отцу Витьки Чугуева нечего прикидываться. Пьет, как все. Правда, варят до этого прямо в подсобке кусок, даже не кусок, а оковалок мяса. Потом нарезают ломти «вострым ножиком», и вот этим отварным мясом закусывают, с горчичкой, и без хлеба. Ел одно время отец Витьки Чугуева хлеб, но, когда стал сильно полнеть, перестал есть хлеб, ел одно мясо, с водкой, и не полнел, а стал стройным, как березка у реки. Скандалит, как все. Бьет ремнем сына, как все. Это конечно, семья-то хорошая.
Снег с дождем, не видно ничего, а Эдик Фридман идет мимо бараков к автобусу, который подъезжает как всегда с опозданием, переполненный, так что с трудом в него втискивается.
Послевоенные бараки.
Завод раскинулся между двумя линиями железной дороги, и подъехать к нему можно только с одной стороны, сделав крюк километров в десять, так от бараков и едет Эдик Фридман. Спать хочется, а он едет. Можно, конечно, от бараков по бурьяну и по грязи, через рельсы и по шпалам напрямую пройти, но это очень долго, даже мучительно. На заводе всё шумно, даже с грохотом крутится, все там так и штампуется, и формуется, и пакуется, и разливается, и застывает, такое первоклассное, исключительное, из-под полы хорошо идет. Крутится недалеко от Эдика Фридмана и Витька Чугуев, из хорошей семьи. Приносит с собой на работу сверток в газете с котлетами из чистого мяса с чесноком, мать накрутит, разрежет мягкий батон вдоль и проложит его котлетами.
Ну и понятно, раз Витька Чугуев из хорошей семьи, то ломает половину батона с котлетами Эдику Фридману. Тот никогда такого и не ел. В плохой семье что едят? Известно, тоненькие бутербродики с маслом и красной икрой, севрюжки прозрачный кусочек. Ну и чай с лимоном. Естественно, что Эдик Фридман всё время голодный из-за стола встает. Худющий такой паренек с орлиным носом и впалыми щеками.
- Сытость позже придет, - говорил отец Эдика Фридмана, - когда в деле забудешься.
И правда, про еду потом забывал, а есть все равно хотелось.
Послевоенная Москва.
Тут и говорить нечего, тут и так всё ясно, потому что после войны все ребята работали кто где. Витька Чугуев и Эдик Фридман познакомились на нефтянке. Завод такой большой, как уже сказано, между линиями железной дороги. Паровозы шипят и гудят, завод шипит и гудит. Они попали работать в один цех, где делали гуталин разных цветов, вазелин для врачебных и технических целей, а уж каких только свечей не делали - и толстые и тонкие, ну и еще там много разных вещей типа топливных брикетов. Руки черные от смазки. Потом в душевой оттирали губчатой желтой пемзой.
Станки стучат, гремят, крутятся, штампуют, прессуют, вдавливают, завод работает, ребята тоже работают круглый год, а потом Эдик Фридман с Витькой Чугуевым в темном углу пересчитывают деньги, ну, мусолят пальцы и листают огромные сталинские сотни с изображением Ленина. Интересно, где огни берут эти сотни? Понятно, из-под полы так и продают продукцию завода, так и продают, каждый божий день несут и тащат, тащат и несут, так и тащат всё подряд, так и продают направо и налево! И ни стыда, ни совести. Ни у того, ни у другого. Хотя один из хорошей семьи, а другой из плохой. Расхитители социалистической собственности, проще говоря. И как они только могут этим заниматься? Ну, ладно Эдик Фридман. Это понятно. Эдик Фридман из плохой семьи. Но как на эту скользкую дорожку наживы встал Витька Чугуев, из хорошей семьи?!
Рабочий Эдик Фридман висит на доске почета, хотя он и из плохой семьи.
Рабочий Витька Чугуев висит на доске почета, хотя он и из хорошей семьи.
После смены Эдик Фридман пригласил Витьку Чугуева к себе домой. Жили они в разных концах барачного поселка, но в абсолютно похожих бараках. Таких желтых, как больничные корпуса, с покосившимися окошками, с облезлой краской и осыпавшейся штукатуркой, из-под которой выглядывали крест-накрест приколоченные к доскам по диагонали рейки. Вход был такой же к Эдику Фридману, с торца, через крыльцо, как и в бараке Витьки Чугуева. И ступени деревянные так же скрипели, когда поднимались, и даже такой же стальной уголок был прибит на одной ступени, чтобы грязь стирать с подошв. Ведь шли-то по грязи по некогда гравиевой дорожке. Там Витька Чугуев даже споткнулся как-то неловко, зашатался и упал со всего хода в черную лужу. Он не заметил ни лужу, ни то, что у него развязался шнурок. Шел себе и шел, болтая с Эдиком Фридманом. И бац! Одной ногой на шнурок, другая тормознула, и - лицом вниз. Руки-то ведь были в кармане телогрейки. Да, именно телогрейки. Витька Чугуев, как парень из хорошей семьи, ходил в отцовской телогрейке. Тепло и не марко. Не то что Эдик Фридман щеголял в пальто с разрезом, рукав реглан, и белый шарфик. У Витьки Чугуева не было такого белого шарфика, и он, если откровенно, завидовал Эдику Фридману, и такому заграничному пальто, и такому шарфику и чистокожаным туфлям без шнурков, с такими тонкими резиночками по бокам, что их и не видно, вскальзываешь в туфли, как в лодочки.
Вполне понятно, что, взойдя на крыльцо, Витька Чугуев уже представлял, когда Эдик Фридман откроет дверь, двери соседей пойдут направо и налево, как у него в бараке, через длинный коридор, в свете окошка в тупике, и слабой желтой лампочки в черном патроне без абажура.
- Я тоже в таком доме живу, - сказал с чувством законного равенства Витька Чугуев.
- А тут в таких домах все мы живём, - очень просто поддержал это равенство, придав ему оттенок братства, Эдик Фридман. Он говорил медленно, несколько приподнимая слова поэтической интонацией, как будто читал стихи.
Вот сказал он: "А тут в таких домах все мы живём", - а получилась строчка поэзии, как будто читал металлическим голосом знаменитый артист Остужев строки Пушкина:
Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам...
Только тут Витька Чугуев как-то случайно понял, что его приятель Эдик Фридман обладает актерскими данными, не сформулировав, конечно, так, а почувствовав, с ёкнувшим сердцем почувствовав. А монолог отчетливо услышал, словно радио говорило металлическим голосом Остужева в его голове.
Покопавшись в карманах своего модного пальто, Эдик Фридман достал ключи, открыл дверь, а коридора длинного до окошка не было.
Витька Чугуев от удивления остановился на пороге.
- Ты чего застыл? - спросил Эдик Фридман.
- У нас тут длинный коридор идет вдаль, - сказал Витька Чугуев, оглядывая просторный холл с хрустальной, как из театра, люстрой.
Да, шли в барак, а пришли во дворец.
- Это ты без привычки, - сказал Эдик Фридман, присаживаясь на бархатную банкетку, чтобы снять аккуратно руками туфли. Не делает, как некоторые, на ходу, стоя, наступают носком туфли на пятку другой, и снимают, не нагибаясь. Нет. Так только в хороших семьях скидывают обувь. А в плохих семьях садятся, не спеша снимают сначала один туфель, потом другой. Если, разумеется, "туфель" - мужского рода. Ну, тут понятно, туфли носит молодой человек, мужского пола, стало быть, и туфель - тоже мужского рода. Эдик Фридман внимательно осматривает и левый и правый туфель, протирает бархоткой и ставит на нижнюю обувную полочку под вешалкой.
Во всю стену от потолка до пола сияло зеркало в резной раме, в такой золотой тяжелой раме, как "Явление Христа народу" в Третьяковке. Витька Чугуев вспомнил Третьяковку сразу, как только увидел зеркало Эдика Фридмана, в своё время с классом Витьку Чугуева в Третьяковку возили, а вот чтоб такое зеркало во всю стену, м-да, - первый раз видел Витька Чугуев такое большое зеркало, и первый раз видел себя в таком большом зеркале в полный рост. Увидел и удивился.
Витька Чугуев как бы впервые увидел себя в полный рост, в масштабе, в необычайном ракурсе, чуть-чуть под углом со стороны взгляда, или так ему показалось. Он приблизился к зеркалу, близко, еще ближе, заглядывая самому себе в глаза. Так близко Витька Чугуев еще не видел, казалось, своих глаз. Он вглядывался в свои глаза до тех пор, пока они не слились в один огромный игольчато-изумрудный глаз. Раньше Витька Чугуев и не полагал, что глаз, как гранит, состоит из зернистых искорок, как яркие звезды на черном небе, но черноты в глазу нет, поскольку искринки сливаются в одну сплошную лазурь, в голубое небо радужной оболочки, в центре которого находится черная дара зрачка, неимоверно глубокого, с двойным дном, со входом в другой мир, о котором в себе раньше и не догадывался, не подозревал сам Витька Чугуев.
- Да, зеркальце будь здоров! - с каким-то новым душевным трепетом воскликнул он.
- Фазер по случаю достал, - сказал Эдик Фридман, бросая замшевые тапочки Витьке Чугуеву.
В застекленные матовым стеклом двойные двери хозяин провел гостя в большую комнату, которая вполне могла называться залом, потому что взгляд Витьки Чугуева приковал шелковый занавес цвета сталистого отлива, висел от потолка до пола, вдалеке, а перед занавесом стоял огромный овальный стол, покрытый бархатной бордовой скатертью, а в центре возвышалась большая хрустальная ваза с живыми розами. Сразу было видно, что они живые.
- А где твои? - шепотом, оглядываясь, спросил Витька Чугуев.
- К деду на похороны в Житомир уехали на три дня, - сказал Эдик Фридман. - Хата свободна! Людку с Танькой пригласим! Все из себя такие, прямо, с перманентиком! - громче нужного крикнул он, так что зазвенел фарфор и хрусталь в застекленном серванте, который называли «горкой».
Не "столичную" пьём, а "особую"!
И какие-то две с перманентиком
Всё назвать норовят меня Эдиком.
Гуляем день, гуляем ночь, и снова ночь,
А я не прочь, и вы не прочь, и все не прочь...
Витька Чугуев видел всё это первый раз в жизни.
А Эдик Фридман поставил на стол поднос с коньяком и лимоном.
Когда выпили по рюмочке, Эдик раздвинул стального цвета драпировку, демонстрируя обалдевшему от этого Витьке Чугуеву белый огромный концертный рояль.
Подняв крышку, Эдик Фридман сел к инструменту и исполнил, откинув голову и закрыв глаза, прелюдию до диез минор сочинение 3, номер 2 Сергея Рахманинова. Об этом он сказал, когда затихший в кресле с открытым ртом Витька Чугуев ничего не мог понять, кроме того, что был прибит необычайной красоты звуками фортепиано.
Я думаю, что если нам необходима психологизация прелюдии, то надо для себя уяснить, что смысл прелюдии не в нашем чувстве, а в подготовке к этому чувству. Прелюдия как предчувствие. Даже некое пророчество! И продолжая рассуждать, могу сказать, что прелюдия, по-моему, есть форма свободной музыки, предначертание нового жанра, нового композиционного построения, почти без традиций, и тут нужен сильный композитор, преодолевающий мнение авторитетов и тяжесть традиции.
Глядя неотрывно в одну точку, как слепой, Витька Чугуев никак не мог понять существо самого проникновения в гармонию музыки приятелем, Эдиком Фридманом, потому что даже не догадывался, что у того дома стоит рояль, на котором можно так здорово играть.
Наконец, путаясь в клубках недоумений, заметьте, не мыслей, а недоумений, Витька Чугуев поднял глаза на Эдика Фридмана и сказал:
- Ну ты как по радио играешь!
Смущение повисло в воздухе, после которого Эдик Фридман тихо улыбнулся, встал, прошелся по комнате.
Заслушавшись, я не спеша открыл банку пива, и сделал несколько глотков.
Передо мною по комнате ходил сам Сергей Рахманинов, коротко стриженый, сухощавый, аристократичный, и говорил:
- Очень трудно анализировать источник, вдохновляющий творчество. Так много факторов действуют здесь сообща. И, конечно, любовь, любовь - никогда не ослабевающий источник вдохновения. Она вдохновляет как ничто другое. Любить - значит соединить воедино счастье и силу ума. Это становится стимулом для расцвета интеллектуальной энергии. Помогают творчеству красота и величие природы. Меня очень вдохновляет поэзия. После музыки я больше всего люблю поэзию. Наш Пушкин превосходен. Шекспира и Байрона я постоянно читаю в русских переводах. У меня всегда под рукой стихи. Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они - как сёстры-близнецы. Всё красивое помогает, - сказал Рахманинов с улыбкой, которая затерялась где-то в уголках его рта. - Красивая женщина, - конечно, источник вечного вдохновения. Но вы должны бежать прочь от неё и искать уединения, иначе вы ничего не сочините, ничего не доведёте до конца. Носите вдохновение в вашем сердце и сознании, думайте о вдохновительнице, но для творческой работы оставайтесь всегда наедине с самим собой. Настоящее вдохновение должно приходить изнутри. Если нет ничего внутри, ничто извне не поможет. Ни лучший поэтический шедевр, ни величайшее творение живописи, ни величественность природы не смогут породить маломальского результата, если божественная искра творческого дара не горит внутри художника.
- Как воздействует на Вас живопись?
- После музыки и поэзии я больше всего люблю живопись.
- Я знаю, что произведение живописи вызвало к жизни Вашу симфоническую поэму «Остров мёртвых». Где Вы впервые увидели картину?
- Впервые я увидел в Дрездене только копию замечательной картины Бёклина. Массивная композиция и мистический сюжет этой картины произвели на меня большое впечатление, и оно определило атмосферу поэмы. Позднее в Берлине я увидел оригинал картины. В красках она не особенно взволновала меня. Если бы я сначала увидел оригинал, то, возможно, не сочинил бы моего «Острова мёртвых». Картина мне больше нравится в чёрно-белом виде.
- Эта симфоническая поэма была моим первым знакомством с Вами как с композитором, - прервала я наш разговор. - Я так люблю её; мистер Странский оказался настолько любезен, что только по моей очень смиренной просьбе повторил её в том же сезоне. Она что-то возбуждает во мне. Хотелось бы услышать её как-нибудь под управлением Стоковского с его Филадельфийским оркестром. Он со своим оркестром временами совершает такие сверхъестественные чудеса. А это сверхъестественное музыкальное произведение рождено сверхъестественным произведением живописи. Между прочим, что Вы можете сказать о других известных композиторах России, ныне здравствующих?
- Русская музыкальная школа - школа огромного значения. Мир медленно начинает осознавать этот факт, как мне кажется, слишком медленно. Бойкот немецкой музыки во время войны - сама по себе вещь чудовищная, несправедливая - заставил людей искать и найти классическую музыку за пределами Германии и Австрии. У нас теперь, помимо других, есть Метнер и Глазунов. Они достойны всяческого внимания. На моём веку мы потеряли Чайковского, Римского-Корсакова и Скрябина. Как я Вам уже сказал, после смерти Чайковского я сочинил Элегическое трио. После смерти Скрябина я исколесил всю Россию, играя его произведения и тем самым отдавая скромную дань памяти великого мастера. Что касается Римского-Корсакова, то скажу Вам, когда после революции я вынужден был покинуть мой дом и мою любимую Россию, мне было разрешено взять с собой только по 500 рублей на каждого из четырёх членов моей семьи, а из всей музыки я выбрал, чтобы увезти с собой, только одну партитуру - «Золотого петушка» Римского-Корсакова.
- Я обалдел просто от твоей игры! - выдохнул восхищенный Витька Чугуев.
- Это ты преувеличиваешь. Я ведь средне играю. Так, для себя.
Отец Эдика Фридмана наставлял сына на этот счет, объясняя, что в музыке, особенно в фортепианной, в сольной, в артистической пробиться практически невозможно. Выучился для себя играть, вот и играй, но держи в руках профессию, поработаешь на заводе, придешь на склад к отцу, поднатаскаешься и будешь жить припеваючи.
- У человека две жизни, - говорил отец, - одна в коллективе на работе, другая в семье дома. И там и там ты должен быть совершенно другим человеком. Дома - ты один. На работе - другой. На работе ты - как разведчик в тылу врага. Но и дома не распускай пояс. Помни, что то, что знаешь ты, знаешь только ты, и никто иной. И никому не рассказывай то, что знаешь ты, не говори о том, как ты всего в жизни добился. Отвечай всегда вежливо и кратко: спасибо, пожалуйста, - и молча проходи дальше. - И добавлял с восклицанием: - Талант дается человеку для того, чтобы похоронить его в молодости!
Между тем Витька Чугуев подошел к роялю и робко нажал на белую клавишу в центре клавиатуры. Получился долгий, красивый и загадочный звук.
- Покажи мне, Эдик, начало, как ты там играл… Ну, в самом начале?
Эдик Фридман сел и напомнил начало прелюдии.
- Дай-ка я, - сказал Витька Чугуев, с нетерпением буквально сдвигая Эдика Фридмана со стула.
И как только Эдик Фридман отошел в сторонку, Витька Чугуев слово в слово повторил начало знаменитой прелюдии Рахманинова. Пальцы попадали туда, куда нужно, уверенно, без задержек, без спешки, а так, как требует гармония звуков.
Он оборвал игру там, где её закончил Эдик Фридман.
- Ну ты, Витёк, даёшь! - вымолвил Эдик Фридман. - Я не пойму, как ты так можешь?
- Я и сам не пойму, чего это меня потянуло на это дело. Ты когда заиграл, во мне как будто что-то треснуло, ну куда-то я провалился, в какую-то пустую комнату, а там еще одна комната, ну, как твой рояль, и я увидел музыку твою, как каких-то человечков, один в зеленом колпаке, другой в синем, третий в красном. Я посмотрел на клавиши, а они все разноцветные. Ну нет одинаковых, как у тебя - только черные и белые. Нет, там все сплошь разноцветные. Ну я по цветам и запомнил... Каждая нота имеет свой цвет.
- Всё-о?! - вопросил Эдик Фридман.
- А чего ещё-то?!
- Ну ты, прямо, Скрябин! - вскричал Эдик Фридман.
Витька Чугуев сидел некоторое время молча, и со стороны походил на человека, которого только что сильно ударили по голове чем-то тяжелым. Вот он сидит, но сейчас покачнется и упадет.
- Я сам ничего не понимаю, - сказал он. - Чего это со мной?.. Приступ какой-то, прямо! Всё как будто прилипает к глазам, понимаешь…
Эдик Фридман опять сел сам к инструменту, и наиграл несколько фраз из другого места.
Витька Чугуев в каком-то полусонном забытьи с точностью всё повторил. Даже передал призвуки, дополнительные тона, придавшие основному тону особый оттенок или качество звучания, тембр.
- Слушай, ты и обертона мои передал! - взволнованно проговорил Эдик Фридман. - Это просто атас какой-то! Атас, рабочий класс!
- Мне и самому как-то страшно вдруг стало. Может, это я того, чокнулся?!
- Да нет, - сказал, посмотрев на него, Эдик Фридман. - Выглядишь ты вроде нормально.
С завидной регулярностью на сценах исполняется прелюдия до-диез минор. Почему именно это произведение входило в концертный репертуар последних лет жизни композитора? Последний концерт. Рахманинов исполняет прелюдию до-диез минор. Овация зала. Рахманинов пытается встать, но не может. Скованный невыносимой болью, Сергей Васильевич был не в состоянии встать. "Занавес! Занавес!" - доносятся тревожные голоса из-за кулис. "Носилки!" - потребовал врач. Слабым голосом Рахманинов попросил: "Одну минуту!... Мне необходимо поклониться слушателям… И попрощаться". Дали поспешно занавес, и зрители не увидели, как композитор упал.
Ранней весной 1943 года в Москве из черных тарелок радио без дежурного баса диктора послышались величественные звуки прелюдии до диез минор.
Вся жизнь - прелюдия... К чему? Нам этой тайны
Не разгадать. Но знаю: не случайно
Проходим, содрогаясь, мы сквозь муки
И жаждем торжества приблизить час,
Когда гармонии вселенской звуки
Волной могучею обрушатся на нас...
Постояли без слов, так, что было слышно, как тикают часы на серванте.
Почти молча сходили к столу, выпили под лимон по рюмке коньяка.
Бывают же невероятные совпадения! Мой друг проникновенный критик из Ростова-на-Дону Эмиль Сокольский, словно телепатически почувствовав, что я работаю над новым рассказом, когда рассказ был сделан только наполовину, и когда я вдруг увидел появление из самой музыки в тексте живого Сергея Рахманинова, записал в своем блоге (от 14 декабря 2001 года):
"Сергей Рахманинов родился в Семёнове, а детство провёл в усадьбе Онег (под Новгородом). В Онеге я был, а в Семёнове нет: в Старую Руссу приезжал осенью, и меня убеждали, что время для путешествия в такую глухомань крайне неудачное, увязну в грязи. О Семёнове я писал так (давно опубликовано в воронежском журнале «Подъём»):
«В нехоженых глухоманях под Старой Руссой давно уже не осталось ни Семёнова, ни окрестных деревень; чащобами задавлен усадебный парк, до которого от ближайшего села Пинаевы Горки двенадцать километров, и заглядывают сюда лишь кабаны да медведи. К бывшей усадьбе можно проехать только на тракторе в сопровождении осведомлённого местного жителя; вряд ли приемлем иной способ передвижения: уж больно скверная дорога ведёт в Семёново (в дождливые месяцы колея становится непроходимой); кроме того, только местные и знают на глаз точный адрес усадьбы, в которой доживают несколько древних деревьев».
И вот сегодня получил письмо от краеведов из Старой Руссы Александра и Натальи Басмановых (они упоминают и Дегтяри, где был крещён Рахманинов):
«Добраться до Семёнова действительно трудно, но вполне возможно. Перейти речку по сломанному мосту и пешком 6 км по старой лесной дороге. Обязательно взять проводника или навигатор. Для нас трудность заключалась в том, что нужно было нести тяжёлое оборудование (поэтому мы взяли маленькую камеру и любительский штатив, о чём сильно пожалели, когда пришли на место). В начале мая было очень жарко, а идти нужно одетыми так, чтобы не нахватать клещей. В конце мая мы решили дойти до Дегтярей - это еще 6-8 км, плюс переправа через речку два раза (первая - по сломанному дереву и вторая - вброд, вышли на берег, а там свежие медвежьи следы). Мы опять взяли любительское оборудование (боялись, что не дойдём). Но нам сильно повезло: речка к тому времени обмелела и мы до Семёнова доехали на тракторе нашего проводника. Опять пролёт с оборудованием! А в Семёнове зацвела сирень и яблони! Красота! Столько лет в тех краях никто не живёт, а эти места не зарастают сорным лесом, кругом молодые березки и ели».
Приглашают съездить вместе… Обязательно съезжу".
В этом месте я приостановил работу над рассказом, и встал из-за компьютера, поскольку мне нужно было съездить в центр по неотложным делам. Когда я возвращался в час пик, вагон был забит до отказа, так что можно было стоять, не боясь упасть, и ни за что не держась. Вот так я и стоял, пока где-то на "Братиславской" из вагона не вывалились почти все пассажиры, а я сел на освободившееся место в тупичке вагона, на крайнем месте у торцевого окна, так что хорошо были видны пассажиры, сидевшие в другом вагоне. И тут я обомлел, увидев, что напротив меня в другом вагоне сидит черноволосая женщина с книгой, на переплёте которой, хорошо мне видном, я прочитал: "Сергей Рахманинов "Воспоминания". Холодная испарина выступила у меня на лбу. Я снял шапку, провел ладонью по голове, почувствовав море влаги, как будто я только что принял холодный душ.
Женщина с "Рахманиновым" вышла на "Марьино", я тоже дернулся, как дергался много лет, чтобы выходить и идти на 619-й автобус, но вдруг вспомнил, что теперь метро меня довозит до подъезда.
На станции "Борисово" я вышел, насквозь пропитанный Рахманиновым.
Я шел по тропинке и наигрывал про себя на фортепьяно прелюдию до диез минор.
Я буквально слышал, как звучат под моими пальцами клавиши.
- Завтра я расскажу об этом Маргарите, - сказал я сам себе.
- Какой Маргарите? - спросил Сергей Рахманинов.
- Из "Покровских ворот", - сказал я, не передав в устной речи кавычки.
- А, это в Москве, от центра идёшь по Маросейке, потом, после Армянского переулка, по началу Покровки до Бульварного кольца, направо - Хохловская площадь, налево поворот к Чистым прудам, - сказал Рахманинов, показывая этим, что он неплохо знает Москву.
- Нет. Это не место в Москве. Это художественный фильм "Покровские ворота", - пояснил я.
- Не смотрел, - сказал композитор.
Я шел по тропинке к подъезду старого барака. Вход был с торца. Холл, огромное зеркало, зал, серебристая драпировка, белый рояль - всё было на месте.
А я уютно сидел за инструментом и, никуда не спеша, выстукивал по клавишам этот рассказ.
Там стучали молоточки, и все время кувыркались, дергаемые, как спицами вязальщицы, тонкими холодными, фарфоровыми пальцами по черным и белым клавишам. Комбинируйте, тю-тю! Этакий барабан марионеток, исполняющих танцы невиданных звучаний на струнах нервов интерпретаторов новизны. Так. Явное прослеживание мысли отвергается истинными сочинителями ударных струн, звенящих до нажатия на педаль тормоза вагоновожатой, звенящей звоночком на площади Борьбы при виде изящно извивающегося под действием ароматизированного самогона Венички Ерофеева, неподражаемого молоточка фортепианной игры на струнах вечности. Мало. Сказано мало о подпольной сущности рояля. Этот ящик на ножках есть всего-навсего барабан, именно барабан с прицепленными к нему струнами. Гитара, засунутая в посылочный ящик с молотком сапожника. Ту-тю-ту-тю-тютя. Так звучит Рахманинов. Бьются люди в струны жизни и звенят трамвайным стоном: помогите, помогите до могилы прокатите. Реквием. Нет, увольте. Реквием мы не заказывали. Нам хватает своей прелюдии до диез минор. Да.
- Может, я еще чего могу запомнить? - осторожно, как бы побаиваясь самого себя, спросил Витька Чугуев.
Эдик Фридман задумчиво почесал лоб. Потом посмотрел Витьке Чугуеву в глаза, потом оглядел комнату, остановив свой взгляд на книжном шкафу.
- А вот запомни эту страницу?!
Эдик Фридман выхватил с полки том Диккенса, раскрыл наугад, и поднес к глазам Витьки Чугуева.
- Ну, запоминай правую страницу.
Прошла минута.
- Запомнил! - сам себя испугавшись, сказал Витька Чугуев, и стал под наблюдением Эдика Фридмана, который водил пальцем по печатному тексту страницы, проверяя товарища, слово в слово барабанить текст из «Посмертных записок Пиквикского Клуба»:
«Приятно было видеть в центре группы мистера Пиквика, которого тащили то в одну сторону, то в другую и целовали в подбородок, в нос, в очки, и приятно было слышать взрывы смеха, раздававшегося со всех сторон, но еще приятнее было видеть, как мистер Пиквик, которому вскоре после этого завязали глаза шелковым носовым платком, натыкался на стены, шарил по углам и проходил через все таинства жмурок, получая величайшее удовольствие от игры, пока, наконец, не поймал одного из бедных родственников, и тогда ему самому пришлось убегать от жмурки, что он делал с легкостью и проворством, вызывавшими восхищение и рукоплескания всех присутствующих. Бедные родственники ловили тех, кому, по их мнению, это должно было понравиться, а когда игра затягивалась, сами давали себя поймать. Когда всем надоели жмурки, началась славная игра в "кусающего дракона", и когда пальцы были в достаточной мере обожжены, а изюминки выловлены, все уселись возле очага, где ярко пылали дрова, и подан был сытный ужин и огромная чаша уоселя*, чуть-чуть поменьше медного котла из прачечной; и в ней так аппетитно на вид и так приятно для слуха шипели и пузырились горячие яблоки, что положительно нельзя было устоять»...
- Слушай, Витёк, тебе в цирке выступать нужно, а ты на завод ходишь! - буквально вскричал изумленный фотографической памятью друга Эдик Фридман.
- А ты чего туда ходишь?! - со своей стороны задал вопрос Витька Чугуев.
- Чего-чего, да ничего! - бросил Эдик Фридман, из плохой семьи, вспомнив наставления отца о полнейшей тайне своего внутреннего «я».
- Ну и я ничего, - сказал сын мясника, из хорошей семьи.
Я медленно допил своё пиво, повздыхал, поглядывая по сторонам, затем, потянувшись, встал, зачем-то вежливо кивнул пожилым людям, вспоминавшим прошлое, как будто сам был участником этих воспоминаний, собеседники меня, кажется, даже и не заметили. Так всегда бывает с погруженными в свою тему людьми. Они находятся как бы под гипнозом. Можно было подойти к ним и совершенно спокойно забрать у одного из них портфель. И уйти с ним. Они бы не заметили.
*уосель - горячий напиток на основе алкоголя, постоянно подававшийся к столу в рождественские и новогодние праздники в Англии во времена Чарльза Диккенса.

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.