Лачин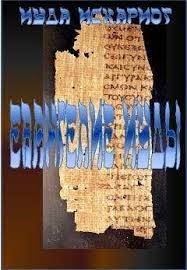

Философское эссе
глава четвертая из романа «Бог крадется незаметно»
Подростки-девушки и жены молодые,
войдемте в темный зал, где восхищенно
взор человечества вонзен в ядро земли.
Прекрасных двадцать рук и двадцать ног
у юноши, с которым я танцую.
………………………………
Не превращайте в камень этот образ,
всего на сутки над землей оставьте
висеть, как плод, на привязях незримых.
А после – с ловчей сетью пусть придут,
поодиночке руки упадут,
поодиночке ноги упадут
и длинноствольные, счастливейшие кости
последнего движенья моего.
перевод Юнны Мориц (автора подлинника мне установить не удалось).
И недавно одна женщина отдернула своего ребенка, тянувшегося ко мне. «Унесите детей! – кричала она – такие глаза опаляют детские души».
Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра»
Мама все поняла сразу – и отчаянно пыталась меня спасти, остановить, повторяя, что ни к чему читать трагедии десятилетнему мальчику, «вывихнешь – кричала – ребенку мозги», но отчим, лениво лузгая семечки, возражал благодушно, что всё лучше, чем шляться ему по дворам: опрометью я кинулся к шкафу, где за стеклом поджидали тома вожделенные, и числом их было четыре – предвестие четырех источников, питающих мой мозг, четырех идеологий, проевших меня навсегда, четырех евангелий, предвестивших мне пятое; одного не пойму до сих пор: почему ринулся именно к ним, как случиться могло, что именно он, оказавшийся мукой и счастьем всей жизни, стал первым из прочитанного – пару тысяч книг хранил шкаф, но двухтысячеголосый хор и впоследствии не мог перекрыть зова этой сирены – и какие матросы смогли б привязать меня к мачте? Ничего не помню до десяти лет, а дальше помню всё, каждую мысль и движенье, жизнь распалась на две половины – и ведь всё могло быть иначе! Сколько задатков к жизни счастливой: общительность, приятный нрав, благодушие, великолепное умение врать – эти качества не заглохли, но уже ничего не меняли, ничего не могли остановить.
Ибо тем и отличается безумие, коим властен ты наделять – оно не ослабляет рассудка, талантов, к самоанализу способности: напротив, лишь обостряет все достоинства, и на фоне их – ярче просвечивает. Они, достоинства, лишь оттеняют безумие. Здравый смысл служит тому, чтоб подвластный тебе острее почувствовал – с иными людьми роковую несхожесть свою.
Ничего этого мать знать не могла: ни чахотки, ни голода, ни одиночества, ни карамазовских мук, но предвидела всё – и попыталась меня удержать, переиграть ситуацию. И главный безумия признак разве не в том, что я только рад ее поражению?
2
«Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. […] Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта – убили».
Марина Ивановна, по вашим словам, так вам думалось в малолетстве, но к чему лукавить: вы и взрослой придерживались той же картины, описав Пушкина так, как он описал Пугачева в «Капитанской дочке» – тьмы низких истин вам дороже вас возвышающий обман. «О Гончаровой […] я узнала только взрослой. […] Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечно действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь […] убила – поэта». Итак, вы окончательно сделали выбор, легенду предпочтя реальности – и это ваше право.
Но поразительно, как точно повествуют ваши слова о моем поэте. Дантес не ценил литературы, и не стал бы убивать из зависти к чужому гению, да и не он дуэль устроил, а Пушкин, вызвавший его приемного отца – но все это мелочи, ведь дело даже не в том, что величавую трагедию вы (и иже с вами) создали из банального любовного треугольника, снабдив персонажи котурнами, гораздо хуже то, что за красивой сказкой вы проглядели миф реальный – а реальность порою взлетает до мифа – умолчали живую сказку о поэте, убитом из зависти графоманом бездарным, вызванном на дуэль, а не вызвавшем. Не могу я похвастаться, что жизнь претворяю в миф, но тем горжусь, что углядел кусок реальности, не уступающий любому мифу, и сейчас я повторю ваши слова, и они будут моими, и не будет в них котурнов, косметики, будет правда нагих документов – правда, воспарившая до мифа, но прекрасней и страшней любого мифа.
3
Главное, что я понял десятилетним ребенком, это – что Лермонтова убили. Тогда же я понял, что Лермонтов – гений, а Мартынов – ничтожество. Мартынов завидовал Лермонтову, потому что сам не мог писать столь хорошо, драться столь храбро и шутить столь весело, и вызвал его на дуэль, зная, что вызванный стрелять не будет, переступил барьер, нарушив правила, и застрелил его почти в упор.
Лермонтов был для меня – и остался – первым на земле человеком, и моего первого человека – убили.
И еще я запомнил крепко, что мой первый человек никого на бой не вызывал, хотя драться умел отменно, и был готов извиниться, виновным или малодушным не будучи; не стрелял в противника с криком «браво!» и не ходил пред поединком мрачнее тучи, а шутил и смеялся до последней минуты – и все равно его убили, и не подняли под руки, отводя к карете, а оставили лежать на дороге под проливным дождем, он был остроумен и веселил друзей до упаду, и никто не отнес тело в карету, никто не отомстил убийце, и его не вынудили покинуть страну, как Дантеса, он мирно опочил в одной земле с убитым. И не было тут ни тупой Гончаровой, ни анонимок дурацких. Ничего мелкого в этой дуэли не было. Были двое: любой и один. Две главных фигуры истории: герой – и чернь. Чернь – убила героя.
Не правда ли, Марина Ивановна, здесь уж действительно – по фактам голым – нет мещанской трагедии. Но есть величие мифа.
4
Отбиваясь от фактов реальных наплыва, Цветаева крепко держалась за миф – я ж напротив: повзрослевши не верилось, что сказки бывают реальны, я изъяна, я бреши в мифе искал, изучая первоисточники – и не мог найти изъяна, каждая деталь биографии его и творчества, в поле зренья попав, только крепче сцепляла детали трагедии. Но это не вся еще правда – мне было б легче, окажись это сказкой, не под силу казалось снести этот крест, и придирчиво к идеалу присматривался, прорехи пытаясь найти, но каждый раз представал взору миф – краткий, отточенный, неправдоподобный и реальный. Как монета заир, сей миф меня преследует всечасно. И если все дороги древних вели в Рим, то все мои пути вели к дуэли и от дуэли.
Все высокие мифы, самые красивые сказки – из реального мира, но людьми принципиально отторгаются, заменяясь вымыслом. Когда после развала Советского Союза глумились над красотой реальных подвигов, самые очевидные факты встречая со смехом, и возрождали библейские сказки, приняв на веру беспочвенные вымыслы – это было все то же.
Десятилетним мальчиком, ничего не понимавшим, я остро ощутил – и смею думать сейчас, что не ошибся – есть белые и черные классики. Белые – как Пушкин, Гете, Низами. Их сравнивают с солнцем. Это солнца человечества. Люди дня – ясного полдня. Бодряки. Их идеализируют без меры, к ним с лакейским восторгом относятся, обращая их в миф. И черные, как Лермонтов и Насими: ну да, они знамениты (трудно не заметить их мощь), но слава их двойственна, перемежаема с насмешкой, нападками, их жизнь – готовый миф, их гибель – античная трагедия, сама судьба обувает их в котурны – но котурнов не видят, миф замалчивают – он неудобен, он дерзок, потому что не выдуман, а рожден самой жизнью. И тогда же я осознал, что и мозгом и сердцем – за черных.
Позже наткнулся на слова Мережковского: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской поэзии». В детстве, думая то же, ночное светило представлял себе в темноту, в черноту загнанным.
Тогда я выбрал черный цвет. Тягостно мне это вспоминать: разве черный присущ гонимым? Хотя десятилетнего ребенка можно понять. Черный – цвет ночи. А Демон – он приходит по ночам.
5
Тамарой предстает читатель – той, что Демон является, отрывая от счастья земного и пошлого. Царство его – не от мира сего, ничего тебе не будет на земле: денег, власти, безопасности, сытости, будет радость иная, неразрывная с болью, будут только иные миры. Все его сочиненья – единый монолог к Тамаре Демона, каждый читатель делает выбор – пойти ли на соглашение, бросить ли вызов здравому смыслу – тут не надобно клятв и печати скреплений, можно вовсе не думать о выборе: он свершается вне твоей воли, самого естества повеленьем, понадежней скреплений и клятв.
Первая мысль, что настигает – о неправедности мира. Хотя в детстве не мысль еще – ощущение. И эта неправедность не сводится к социальным недугам и конфликтам политики, вне связи с неурядицей личной: изъян в самом мироустройстве. Мне мирозданье не по нраву – говорит отдавшийся Демону, и те же слова повторяет армада негодяев и глупцов, но есть коренное отличие: помеченный Демоном не привержен к какой-либо узкой доктрине, в нем нет эпатажа, жеманной брезгливости, и легковесной игры.
Magna est veritas et prevalebit 1 истина велика, и она возьмет верх. (лат.) – это кредо простодушных идиотов мы встречаем печальной улыбкой, афоризмы подобные: стропила шаткие над бездной зла, и хотя не чураемся смеха и шуток, но глаза – вперяем в бездну, веселье наше – танец отчаянья над пропастью. На шатких мостиках танцует лермонтист.
«Блаженны устоявшие против соблазна. Ибо воздастся им…»: перспектива сытной жвачки, заключенная в последних словах, опошляет слова предыдущие. Не надо жвачек.
Блаженны поборовшие соблазн. Но им не воздастся.
6
Завистливый Сальери губит Моцарта – сюжет популярный и воспетый, хотя бедняга Сальери никого не убивал. Особо постарался Пушкин – ему сам бог велел, как автору строк о «нас возвышающем обмане». И сам стал мифом – Пушкин и Дантес часто выдвигаются на роль новых Моцарта и Сальери, не реальных, а выдуманных Пушкиным. Теперь у нас два мифа вместо одного. За ними, как водится, мы проглядели миф реальный. Когда же эта история произошла в действительности, ее никто не приметил. Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» с кошмарной точностью претворилась в жизнь лет через десять после ее написания. Это именно тот случай, когда жизнь, по словам Уайльда, подражает искусству. Мартынов, человек пишущий (от Дантеса в отличии), и действительно бесталанный (от реального Сальери в отличии), убивает гения (правила дуэли попраны, то есть чистое убийство – то, что приписывается Сальери). И главное – в реальном мире трагедия вышла романтичней, неправдоподобней. Мартынов – сочинитель несравненно ничтожней Сальери, даже пушкинского; Лермонтов еще моложе Моцарта и Пушкина, обрыв его жизни: обидней, трагичней – пьеса Пушкина воплотилась в жизнь, но контрасты стали резче, характеры ярче, трагизм: надрывней – но этого реального, кричащего мифа никто не приметил.
Так во всем и всегда. Творческий рост Лермонтова – некий взрыв по нарастающей, в возрасте авторов «Бахчисарайского фонтана» и «Бедных людей» пишутся «Демон» и «Герой нашего времени», «Руслана и Людмилы» – «Маскарад», тут единственный случай рекордно раннего развития единовременно в прозе, поэзии и драматургии, и ослепительной звезде вундеркиндов, Рембо, удалось с ним сравняться в одной только области – лирической поэзии; к девятнадцати годам он продвигается уже во всех жанрах, родах и видах литературы с одинаковой скоростью, к двадцати шести с лишним годам имея в своем фонде 41 вид стихотворных размеров (у Пушкина – 33 вида, Жуковского – 31), 158 моделей строфы (Жуковский – 113, Некрасов – 102, Пушкин – 91), будучи изобретателем 54 новых строф (Жуковский – 37, Некрасов – 30, Пушкин – 20, Боратынский – 7), войдя в литературу не учеником, а экспериментатором («Пушкин начинает как ученик с подражания образцам, а Лермонтов – как реформатор с ломки канонов» – Б. Ярхо 2 журнал «Вопросы языкознания», 1966 г., №2, стр. 136.). Казалось бы, напрашивается аналогия с тем же Моцартом, ранним развитием выделившимся даже на музыкальном небосклоне, столь вундеркиндами богатом. Ничего подобного. С Моцартом сравнивают лишь Пушкина.
Ведь это же курьез в квадрате: Лермонтов повторил Моцарта с его взрывным развитием и вдобавок повторил пушкинский миф о Моцарте, пьесу «Моцарт и Сальери» – с ним это происходит в реальности, и рядом предусмотрительно возникает Мартынов, слепок с пушкинского Сальери – чтобы все было по пьесе Пушкина, по мифу, как в сказке. То есть Лермонтов повторил обоих Моцартов – и реального, и пушкинского. Но самое потрясающее в том, что всего этого никто не приметил.
В фильме Формана «Амадей», ставшем на Западе столь же каноническим портретом Моцарта, как в русской культуре – пушкинская пьеса, есть сцена: Моцарт высмеивает Сальери на публике, и тот замышляет месть. Это плод воображения сценариста. Но этот эпизод буквально воспроизводит многочисленные случаи из жизни Лермонтова, постоянно вышучивавшего Мартынова – его стихи и манеру держаться – на дружеских вечеринках. Результатом очередной шутки и стала дуэль. Даже кинообразы Моцарта и Сальери больше напоминают Лермонтова и Мартынова, чем реальных прототипов. Еще удивительней то, что этого никто не приметил.
7
Для более ясного представления о степени вундеркиндства Лермонтова приведу список имен – ни одно из них мы бы никогда не услышали, проживи они неполных двадцать семь лет.
писатели
1. Шекспир
2. Сервантес
3. Бернард Шоу
4. Воннел
5. Гончаров
6. Мильтон
7. Свифт
8. Пруст
9. Бальзак
10. Борхес
11. Грибоедов
12. Теккерей
13. Гофман
14. Семюэл Беккет
15. Голсуорси
16. Фолкнер
17. Набоков
18. Петрарка
19. Державин
20. Стендаль
21. Мопассан
22. Рабле
23. Франс
24. А. де Виньи
25. Драйзер
26. Кафка
27. Диккенс
28. Цвейг
29. Дидро
30. Саади
31. Л. де Лиль
32. Анненский
33. Лесков
34. Унамуно
35. Валье-Инклан
36. Эллис
37. Саша Черный
38. Вячеслав Иванов
39. Сологуб
40. Мольер
41. Марк Твен
художники
1. Эль Греко
2. Ван Гог
3. Гоген
4. Матисс
5. Врубель
6. Рубенс
7. Сезанн
8. Суриков
9. Тициан
10. Пуссен
11. Майоль
12. Буше
13. Дюрер
14. Ривера
15. Ороско
16. Фра Анджелико
17. Мендес
18. Хокусай
19. Тернер
20. Милле
21. Гойя
22. Питер Брейгель Старший
23. Антуан Ленен
24. Добиньи
25. Тинторетто
26. Джованни Беллини
27. Эрнст Неизвестный
композиторы
1. Мусоргский
2. Шютц
3. Хачатурян
4. Бородин
5. Дебюсси
6. Верди
7. Глинка
8. Даргомыжский
9. Мясковский
10. Балакирев
8
Ради большей точности требуется несколько примечаний.
Во-первых, многие из вышеназванных ничего не сделали и к тридцати пяти, и к сорока, и к пятидесяти годам.
Второе. Многие из неназванных после двадцати семи лет жизни были бы известны пяти-шести узким специалистам (Крылов, Расин, Джойс, Мережковский, Тютчев, Фет, Жуковский, Чехов, А. Доде, Бизе, Чайковский, Брукнер, Шёнберг, Хиндемит, Курбе, Климт, Шарден etc.) Если назвать всех, придется удвоить список.
Больше всего среди названных – представителей русской и французской культур. Это потому, что их биографии известны мне несколько лучше, чем, скажем, дальневосточной интеллигенции. Подозреваю, что иначе пришлось бы увеличить список раза в полтора.
Детали биографий античных и средневековых классиков малоизвестны. Лишь потому никто из них не пополнил данный ряд имен.
Многие таланты, яркие, но di minores, опущены, иначе список был бы многостраничным.
Философы и архитекторы не названы – пришлось бы перечислить всех, за вычетом трех-четырех человек.
Большинство крупных литераторов и художников XX века не названы – их много, а назвать пришлось бы почти всех.
Почти все классики (да хоть Пушкин) в зрелом возрасте правили свои юношеские сочинения. В глазах большинства читателей Пушкин, Гоголь etc. выглядят «вундеркинистей», чем были. Лермонтов того не делал, потому что отказывался публиковать ранние вещи, и даже наоборот – переносил лучшие строки из детских писаний в зрелые сочинения.
Для должной оценки перечисленных учтем еще два обстоятельства. Большинство образованных хорошо знают лишь отечественную культуру – тут потребно умственное усилие, чтобы понять: чужие имена из списка ничем не хуже родных вам мастеров. Второе: большинство мнящих себя интеллигентами смыслят лишь в одном-двух видах искусств, об остальных имея понятие смутное. Сделав второе умственное усилие, мы поймем: малознакомые имена не менее блестящи, чем знакомые. Теперь мы можем по достоинству оценить все имена.
Остались две детали. Каждый второй из вышеперечисленных, если не больше, свободно располагал своим временем – Лермонтов не относился к этим счастливцам. Еще: по количеству и силе «побочных талантов» с ним сравнится лишь десятая доля из названных.
Теперь, с учетом всего сказанного, можно понять, кем был Лермонтов на фоне остальной «творческой элиты» человечества.
9
Степень одаренности Лермонтова в изобразительном искусстве позволяла ему стать настоящим художником, посвяти он этому больше времени; впрочем, краткость жизни и недостаток досуга не помешали оставить графическое наследие богаче и профессиональнее пушкинского (говорю как искусствовед), плюс картины маслом, акварели и литографии; он играет на фортепиано, флейте и скрипке, репетирует как певец оперные арии «до потери дыхания», удивляя слушателей «необыкновенной музыкальной памятью», пишет музыку на свои стихи, отличается незаурядными актерскими данными, изумляет пожилого профессора 1 Дядьковский. эрудицией относительно Ф. Бэкона и английской экономики, быстро овладевает языками, живыми и мертвыми, силен в шахматах, легко решает сложные математические задачи, он блестящий офицер, и командование восторженно рапортует о высоком его профессионализме, он один из лучших на фронте наездников, прекрасно владеет холодным и огнестрельным оружием, и отличается недюжинной физической силой. Личности универсально одаренные почти перевелись со времен Возрождения, и людей подобного (почти подобного) типа называют ренессансными. Но именно относительно к Лермонтову мы нигде не найдем подобного эпитета. В самой же России русским Леонардо да Винчи многократно именовали Флоренского, хотя примечателен он не столько творческой деятельностью, сколько голыми знаниями, и только умственным развитием, без телесного. Но чистый тип ренессансной личности, человека гармонично развитого (и духом, и физикой), остался непримеченным.
10
Тягостное чувство недоумения только усиливается, если от творчества Лермонтова перейти к оценке – современниками и последующими поколениями – его личности, именитыми мужами культуры: особливо. При всей молниеносности лермонтовского развития – он не рвется на публику, в печать, более: стыдится юношеской незрелости, гневается на приятеля, без разрешения опубликовавшего его раннюю поэму, и самый первый сборник входит в золотой фонд поэзии; то есть по его принципу входить в литературу надо классиком, или вовсе не входить – более сурового условия и не придумать. Никакого юношеского озорства и бездумного веселья, никакого упоения собственной одаренностью, как у лицеиста Пушкина. Искусство – храм, творчество – священнодействие. И вот Гоголь, вспоминая погибшего, попрекает его – тем попрекает, что Лермонтов вошел в храм искусства без почтения должного, за то что небрежен, по сравнению… с Пушкиным. Сосланному на военную службу, неимоверным усилием воли за четыре с половиной оставшихся года жизни поэту удается стать полноправным классиком. В разъездах, в перерывах между боями пишет где придется, порою на дне ящика из-под провизии, будто зная, что жить осталось всего ничего, страстно желая успеть – и успевая – многое сделать. Тяжелое – и высокое – зрелище на фоне того же Пушкина, просиживавшего ночи за картами, Тургенева, скучавшего в уютной усадьбе и говорившего со смехом, что русский писатель любит, когда его отвлекают от работы, А. Н. Толстого, с тем же смехом повторявшего те же слова, Гёте, на склоне долгой жизни безмятежно признававшего, что большая часть его времени уходила всегда на совершенно ничтожные мысли, и Бунина, с той же безмятежностью соглашавшегося с Гёте.
И Гоголь заключает, что Лермонтов не исполнил священного долга поэта и потому заслужил свою гибель.
Что это – личная вражда, материальная заинтересованность, плохая осведомленность? Всё мимо.
Ключевский, из почтенных историков дореволюционной России, пишет: «Редко платят такую тяжелую дань предрассудкам и порокам своей среды, какую заплатил Лермонтов. Он был блестящей иллюстрацией и печальным оправданием пушкинского Поэта, в минуты безделья, пока божественный глагол не касался его слуха, умел быть ничтожней всех ничтожных детей мира или по крайней мере любил таким казаться». И ученый ничем не поясняет этих слов, мнение свое поднося общепризнанным фактом. Между тем в биографии Лермонтова не найти случаев подлости или жестокости – ничего выделяющего его на фоне остальных известных деятелей культуры, русской и мировой.
Только невежде придется объяснять: не приписывай автору пороки его персонажей. Достоевский, с его-то культурой, уж конечно не нуждается в разъясненьях подобных. Но обобщите его высказывания о Лермонтове: последний полностью отождествляется с Печориным. Характеризуя Ставрогина, желая показать всю глубину его падения, Достоевский говорит, что у его героя «в злобе выходил прогресс даже против Лермонтова». Даже Лермонтова – Достоевскому он видится мерилом злобы. Напрасно искать объяснений: как и у Ключевского, низость Лермонтова – аксиома.
Достоевскому, как пацифисту, миролюбцу, должно бы импонировать поведение Лермонтова, «отъявленного врага дуэли» (выражение Ф. Боденштедта, его знакомого), жаждущего примириться с недругом, стреляющего в воздух, нежели дуэлянта со стажем, драться готового по ничтожному поводу, при виде пошатнувшегося противника кричащего «браво!»; ведь для Достоевского христианские ценности превыше всего – нет, это ничего не меняет. В конце жизни собирается он писать разгромную статью о дуэли Лермонтова, проецируя ситуацию из «Героя нашего времени» на жизнь поэта, и виновником дуэли предстает… Лермонтов. Человек, отказавшийся стрелять и спокойно принявший смерть, видится Достоевскому злобным бесом. В планируемом романе «Житие великого грешника» предполагается анализ отрицательного воздействия лермонтовского романа на восприимчивые чувства и юный мозг. И здесь Достоевский удивительным образом сходится с… Николаем I, с Бурачком – дурачком критиком времен Лермонтова…
Хотя все это меркнет по сравнению с В. С. Соловьевым. Тот увидел в сочинениях Лермонтова «обыкновенную человеческую пошлость».
В наши дни вышла двухтомная книга ректора Литературного института Б. Тарасова, обеляющая Николая I. Рецензент А. Турков пишет разгромную статью. Доказывая, что венценосец был самодуром, приводит примером Пушкина, убеждая – царь плохо к нему относился. Вспоминает также: монарх не оценил «Мертвых душ». Царь, откомментировавший убийство Лермонтова словами: «Собаке – собачья смерть»: прекрасный повод обличить Николая, развалить аргументацию Тарасова – но Турков не упоминает этого. То ли для него сживание Лермонтова со свету и глумление над мертвым – мелочь, то ли он не надеется впечатлить этим читателей. Я не читал Тарасова, только рецензента. Тут два варианта: Тарасов также не упоминает Лермонтова (Пушкина упомянул), то есть не считает его травлю особым проступком, или он выгораживает Николая относительно Лермонтова – но рецензента это не больно возмущает (и это при том, что Николая он не любит). Пусть ответит кто хочет, какой вариант предпочтительней – а я не буду отвечать.
11
Примеры, подобные вышеописанным, неисчислимы, и множатся с каждым годом. Когда разваливался Союз и стало возможным оплевывание классиков, удар был нанесен именно по Лермонтову. Телеведущий, слишком ничтожный для начертания его фамилии, объявил голословно, что Лермонтов был мерзким человеком и получил по заслугам. Журналист точно знал, из-за кого не будет скандала, кого можно безнаказанно бить – юношу, со словами: «У меня на тебя рука не поднимется» пистолет разрядившего в воздух, тут же убитого и оставленного под дождем. Тогда, девятнадцатилетним, я недоумевал: ведь есть же другие объекты для критики, гораздо больше повода дающие для поношений – зачем взялись именно за него? А ведь все просто: чернь не любит реальных мифов.
(Не по той же причине, когда оплевали героев Великой Отечественной войны, наибольшим издевательствам подверглась Зоя Космодемьянская? Не крепкие мужчины, неприятеля бившие, а девушка восемнадцати лет, даже убить никого не успевшая, только крикнуть на плахе, что бояться врага не след, и тут же повешенная. Слишком красивой, мифоподобной вышла история – и срочно нуждалась в плевке.)
12
«Глухая ненависть» – так, очень точно, определил Мережковский отношение к Лермонтову. Сказано лет сто назад, и не утеряло актуальности. Именно «глухая»: в ней редко признаются. Порой она неосознанна. Это выражается и в постоянной готовности оправдать, хотя бы частично, Мартынова. Ни одного из убийц и гонителей выдающихся людей нельзя выгораживать с такой легкостью, и особенно среди интеллигенции.
(Так ли уж неосознанна ненависть к убитому? Так ли уж подсознательно стремление обелить убийцу? Или это моя дурацкая вера в человека – мол, не ведают, что творят? Только изредка окатит мысль – может, и ведают.)
В детстве перед глазами Цветаевой висела картина «Дуэль». «С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно убивали все мое младенчество, детство, юность – я поделила мир на поэта – и всех, и выбрала – поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и не назывались». Цветаева – и иже с нею – выбирает в подзащитные самого защищенного, забронзовевшего, самого охраняемого из поэтов. Рвется его защищать – помилуйте, Марина Ивановна, от кого?! Мир его охраняет: от мира – какая ирония!
«…поделила мир на поэта – и всех». Разделение бессмысленно – Пушкин сам от мира сего. Он полномочный представитель этого мира (перед кем, спросите? пред подобными мне, что откликнулись Демону). Пушкин, Гёте, Низами, Сервантес, Физули – знамена мира. Насильственной смертью умирают они редко, по частным причинам (да и то Пушкин здесь исключение), быстро возносясь в ранг небожителей, «замбогов»; попытка бесстрастной оценки пресекается окриком грозным, и не от кого их защищать. Белые классики – убить такого можно лишь случайно. Власть предержащие, спохватившись, что классик-то – белый, от мира сего, спешно берут его на вооружение. Если убивают, то только один раз, при жизни, и веками о том сокрушается мир.
Что могло спасти Пушкина? Дантес промахнулся. Не приехал в Россию. Пушкин не женился на эффектной и ветреной дуре. Измените любую деталь, и трагедия не состоится. Промахнись Мартынов – не было бы кардинальных перемен в жизни Лермонтова. Его держали на передовой, смерть должна была нагрянуть со дня на день. При любом развороте событий он выигрывает не более одного-двух лет жизни. То же с Насими. И Цветаевой – по иронии судьбы и она лермонтистка, из черных (сама того не видя, вся в безоглядном Пушкину служеньи). Самоубийство было ее спасением. Самый мир охотится на подобных людей. Не в жестокосердных правителях дело, не в дуэлянте бесчестном – изъян в самом мироустройстве. Чтобы спасти пушкиниста, надо в нужный момент схватить конкретного убийцу. Чтоб долго жили лермонтисты, нужно облагородить человечество.
Пушкина убил Дантес, Лермонтова – мир.
13
Пушкинисты особенно любят вспоминать следующие слова своего кумира (я их тоже люблю вспоминать, их нельзя забывать): «я могу быть подданным, даже рабом, но шутом и холопом не буду и у царя небесного». Очень гордые слова для пушкиниста – надо же, готов быть подданным, «даже рабом», а вот холопом и шутом стать не хочет. Пушкин довольно строптив на фоне пушкинистов.
Чем отличаются лермонтисты и почему мир охотится именно на них, уточнять будет излишним.
14
Никакого сочувствия не вызывает у меня цветаевский пассаж. Клеймя Николая I, говорит поэтесса: «Автора (Пушкина – Л.С.) – хаял, рукопись – стриг». Монарх не посылал Пушкина под пули, не встречал его гибель словами: «собаке – собачья смерть», но именно то, наиболее очевидное и бездушное преступление не упоминается. Не забыто и истребление поляков: «польского края – зверский мясник» – умолчано лишь о том. Не оттого, что «в строку пришлось» – Цветаева порой переделывала отдельную строфу десятки раз, добиваясь точной передачи мысли. Нет в цветаевском пассаже гуманности, если злодеяния более откровенные интересны ей менее. Урожденная черная, не желает того осознать, и принимает сторону мира. «…защищать – поэта – от всех, как бы эти все ни одевались и не назывались» – ах как красиво, романтично, бунтарски – но стоит вспомнить, что защищается: Пушкин, как от бунтарства не остается и следа. Цветаева – с миром. И поэт, мирозданью не по нраву пришедшийся, не упоминается – даже при перечислении подлостей ненавистного ей человека. Но для меня поэт дороже мира.
Выше говорилось, что белых классиков убивают лишь раз, при жизни – не оговорка, а факт. «Мы убиваем гения стократно,/ Его убив при жизни только раз», говорит Бальмонт о Лермонтове, возможно, не подозревая даже, сколь точная мысль здесь высказана. С тех пор, как Лермонтова убили – в книгах, в досужих беседах, газетных статьях и телепередачах продолжали убивать моего поэта, не на картине Наумова, а в жизни. Нелюдимым подростком, без знаний, без терминологии, я поделил мир на черных поэтов – и мир, и в подзащитные выбрал – черных, душою и мозгом прикипел – к черным, положив защищать их – от белых, мирских, как бы те не назывались и с какой бы высоты пьедесталов на меня не взирали.
15
Такова была терминология нелюдимого подростка. Но разве черный цвет присущ отверженным?
Самый мир, говорю я, охотится на подобных людей, они раздражают его – так бесит быка красный плащ тореадора. Но если щеголь-тореадор красуется при одобрительном реве публики, и обречен на гибель одинокий бык, то на арене истории бык есть мир, и ревущая публика – тот же бык, и на смерть обречен – тореадор, сиречь лермонтист. И если тореадор дразнит быка, лермонтисту того не требуется, он – тореадор поневоле, он дразнит мир – своим существованьем.
Анненский, блестяще изобличивший всю мелкотравчатость Чехова, пишет в частности: «Господи, и чьим только не был он другом: и Маркса, и Короленки, и Максима Горького, и Щеглова, и Гнедича, и Елпатьевского, и актрис, и архиереев, и Батюшкова… Всем угодил – ласковое теля… И все это теперь об нем чирикает, вспоминает и плачет…» Лермонтист – не ласковое теля.
«Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся…», говорит Верховенский Ставрогину. Достоевский рисует Ставрогина злодеем, только в том-то и дело, что Ставрогин вызывал бы страх и ненависть, будь он даже ни в чем не повинен. Автор мыслит его наследником Лермонтова и Печорина. Но устами Верховенского проговаривается: «Вы никого не оскорбляете… вы смотрите всем ровней…». Ставрогин (Лермонтов, Печорин) виноват априори. Лермонтов виноват, потому что Достоевскому так хочется.
«…взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен». Печорин раздражает людей. Вот чем объясняются выпады Гоголя, Ключевского, Достоевского, Соловьева и других. Тревожную, беспокойную ноту вносит в мир лермонтист, и мир – разъяренный бык – атакует тореадора-поэта. Не черный, а красный цвет пристал Лермонтову – от него стервенеет мир-бык.
Это образ. Ведь бык не различает цветов. Но только ли образ? Конкретизируем слово «красный».
16
– Видите! Все-таки ангел ее спас. Как это хорошо!
– Нет! – сказала Уля, […] – Нет!.. Я бы улетела с Демоном… Подумайте, он восстал против самого бога!
А. Фадеев. «Молодая гвардия»
В тюрьме, в ожидании пыток и казни, героиня Фадеева читает сокамерникам «Демона». И вся она – внешностью, характером, поведением – удивительно спаяна с Демоном. Мы могли бы сказать: пусть сцена в застенках лишь художественный вымысел – страсть к лермонтовскому герою наиболее соответствует образу прототипа Ули, реальной Ульяны Громовой. Могли бы сказать – хотя это прозвучало бы субъективно. Но ознакомимся с тетрадью Громовой: «Голубой книжкой», куда выписывались цитаты из любимых книг, с воспоминаниями ее матери. Любимым поэтом оказывается Лермонтов. Художественная правда совпадает с реальностью. Об этом можно было б рассказать в пятом параграфе, подтверждая: отдавшийся Демону презирает земное счастье, и недоступен страданьям земным. «Я бы улетела с Демоном…» Но Громова уже отдалась ему – когда впервые прочла. С этого момента все было предрешено: вступление в подполье, бесстрашие, мученическая смерть, и равнодушие к библейской жвачке. В той же «Голубой книжке» она записывает из Помяловского 1 Н. Г. Помяловский (1835–1863) – русский писатель.: «В жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот перелом наступает только в юности. Это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве». О том и говорится в первом параграфе. Но сейчас речь о другом.
Не множа примеров до бесконечности, процитируем одно из солдатских писем Великой Отечественной: «Дорогая маманя! Передо мной томик избранных произведений Лермонтова – им я и спасаюсь последнее время!» 2 Дмитрий Кабанов «Память писем, или Человек из «тридцатьчетверки». Беру именно это письмо из всех возможных, потому что далее в нем следует: «…ни на минуту не забываешь, что ты – лишь частица гигантской пружины, сжатой до крайности и готовой развернуться во всю свою мощь, чтобы нанести решающий удар». Та же пружина заложена в каждом лермонтисте.
Образцы советской молодежи – в жизни, как реальная Громова, в литературе и кино – втянуты в лермонтовскую орбиту. С тем же успехом они читают Маяковского, но тот открыто пропагандирует большевизм, в Лермонтове этого нет. Лермонтов не был казнен за попытку переворота, как Рылеев, не воспевал революцию, как Шенье или тот же Маяковский, не заклеймил крепостное право, подобно Радищеву, и не посвятил все свое творчество жизни простого народа, как Некрасов, что особо ценилось в Союзе. Почему Ленин в 1918 году в списке людей, заслуживающих памятников как «великие деятели социализма, революции» в разделе «писатели и поэты» первым после Толстого и Достоевского называет Лермонтова – первым из поэтов? Чем объяснить, что наряду с Пушкиным советская власть первоочередно тиражировала певца Печорина и Демона? Пушкин дело иное – канонизирован как основоположник литературной классики. И еще, как подметил Вересаев, Пушкин такой писатель, что с помощью цитат из него можно доказать все что угодно. Про Лермонтова того не скажешь. Дело в другом.
Советский Союз по сути своей был государством лермонтистским. Бунтарским, презревшим «законы божьи», библейскую и кораническую жвачку. Богобоязненным и меркантильным мещанам Советская власть всегда представала началом демоническим. Д. Андреев выставляет Сталина посланцем дьявола (буквально), и это не предел. В одной антисоветской книжке я вычитал утверждение некой ученой дамы: дьявол вошел в Ленина, а когда тот умер, тут же перешел в Сталина. Положительные герои Солженицына не страшатся перспективы ядерной войны, если есть надежда на гибель Союза. Эта апокалипсическая ненависть несоизмерима с реальными проступками коммунистов. Тот же Андреев выгораживает Гитлера в пику Сталину. Бесполезно искать здесь логики – красный стяг коммунистов был плащом тореадора для мира-быка.
Это та же «глухая ненависть». (Кстати – Мережковский, упоминавший о ней в связи с Лермонтовым, радовался нападению Гитлера на Советский Союз, в порыве теплых чувств сравнив его с Жанной Д’Арк. Как-кая ирония! Человек, понявший, что в отношении к Лермонтову что-то неладно, сам же влился в ряды обывателей по отношению к лермонтистскому государству.) Истоки этой ненависти столь глубинны, что сам ненавидящий их не сознает, не хочет сознавать. Речь сейчас не о политической и классовой борьбе, оно понятно – буржуазия, радея о выгоде, клевещет на чуждый порядок. Речь о подсознательном неприятии и страхе. Нет и не было государства, вызывавшего столь несправедливое к себе отношение, подчеркну – несправедливое со стороны людей, в этом незаинтересованных. Весь мир целеустремленно травил Советский Союз, загонял в угол, пребывая в искренней уверенности, что Союз агрессивен, и думает так и поныне. Лермонтова дважды вызывают на дуэль, стреляя на поражение, оба раза он стреляет в воздух, и платит за это жизнью, но именно он приобретает репутацию человека опасного и злобного, не Пушкин, готовый вызвать кого ни попадя, и в юности, и в последний год жизни, и добросовестно пытающийся убить соперника, не Л. Толстой, не раз порывавшийся застрелить Тургенева из-за расхождения во взглядах (да, по молодости, но ведь и Лермонтов был молодым), не Грибоедов, стравливавший дуэлянтов, не Куприн, спьяну калечивший прохожих (да, в молодости, в возрасте Лермонтова) – но именно Лермонтов. С момента возникновения Советской власти четырнадцать государств попытались его удушить, введя свои войска на чужую территорию и залив ее кровью – и мир пришел к выводу, что СССР несет смертельную опасность всему окружающему, и нужно готовиться к новой войне. Едва отдышавшись, в сорок первом году Союз подвергся нападению новой группы стран, убивших каждого пятого советского гражданина и продемонстрировавших просто-таки людоедскую жестокость, неслыханную со времен Бусирида и Фаларида 3 Бусирид – в греч. мифологии: египетский царь, приносивший человеческие жертвы, пока его не убил Геракл; Фаларид – тиран сицилийского Акраганта (VI в. до н.э.), будто бы сжигавший своих врагов в медном быке, – мифологический и исторический примеры предельной жестокости. – в результате мир ужаснулся опасности, исходящей от Союза, и принялся душить его экономическими методами.
Бред, абсурд? Но разве мы уже не проходили это – в другом сорок первом? Разве отношение к Лермонтову за прошедшие полтора столетия не есть тот же бред? Жизнь Лермонтова – эмбрион истории Советского Союза. Его предвестие.
17
Жестокий, агрессивный человек сильнее «добряка», жалостливого – такова гнусная закономерность жизни. Для активной борьбы, пусть за правое дело, нужны жесткость, напористость, нужна… злость – качества, более присущие подлецам. Подлецы напористее. По той же причине страстные патриоты легко сползают в национализм, а воинские доблести, «упоение в бою» органично спаяны с садизмом. Для борьбы за справедливость более пригодны люди, равнодушные к ней.
Вот Волошин, человек редкой отзывчивости, безупречно порядочный. Идет гражданская война, четырнадцать стран помогают белогвардейцам расчленить его родину. И Волошин готов помогать всем без разбора – и красным, и белым, не задумываясь о последствиях. Советская власть обучила народ грамоте, как честный интеллигент (интеллигенты бывают разные) Волошин ее принял. Но бороться за нее был не способен, и даже укрывал ее врагов – по доброте.
То же с Блоком. Он принял революцию, не убоявшись крови и грязи, во имя социальной справедливости, но знающий облик Блока подтвердит – он непредставим в роли активного борца. Он может быть жертвой, немым упреком, моральным примером, но не способен убить (только не говорите сейчас, что, борясь за справедливость, можно обойтись без убийства. Не надо, хорошо?).
Волошин, Блок – люди, созданные для царства справедливости, кое мечтал построить Ленин, менее всего готовы за это царство – бороться. Борются другие. Чаемое царство выходит несколько иным. (Будь весь Союз к моменту его создания населен одними Волошиными, Блоками и Вересаевыми, мечта Ленина была бы в наличии. Беда в том, что такое государство было бы тут же уничтожено иностранцами.)
Драться умеют такие, как Клейст, Хемингуэй – вот уж полезные люди в качестве борцов с оккупантами и всяческой подлостью. Но у Клейста ненависть к французским захватчикам постепенно переходит в ненависть к брюнетам, воспевание патриотических доблестей – в садистически упоенное описание убийств и избиений. Позже нацистам потребовалось лишь подретушировать портрет Клейста, дабы ввести в пантеон своих классиков. (Клейст не фашист. Я лишь о том, что ретушировка прошла успешно.) Хемингуэй с фашистами храбро воюет – а еще он с жаром охотится на диких животных. Он любит стрелять. Не только в фашистов, а вообще. Умеющие драться, как правило, драться любят. Вроде Киплинга и Гумилева, охочих попалить в любой войне, в захватнической, как оккупация Британией Индии, или буржуазной, как первая мировая. В них сидит милитаристский дух. Считайте слова Фейхтвангера оправданием трусости, но во многом он прав, говоря, что смелость (цитирую по памяти) является смесью агрессивности, жестокости и глупости. Но для борьбы с подлостью киплинги и гумилевы гораздо пригоднее Волошина и Блока, а Фейхтвангер бесполезен вовсе. Мир устроен подло.
Лермонтов бесшабашно смел на войне, демонстрирует «отменное мужество и хладнокровие», как восторженно докладывает его начальство в Петербург. Командует отрядом головорезов, вступающим в рукопашные бои с воинственным и безжалостным противником. Отряд по приказу Лермонтова пользуется только холодным оружием, то есть убивает исключительно при личном контакте. Налицо не только смелость, но и умение драться. Странно, что он человек мирный, постоянно просится в отставку. Этот храбрец, свободно владеющий саблей, шпагой, пистолетом и своими нервами, не испытывает никакого «упоения в бою», вдохновенно описанного никогда не воевавшим Пушкиным. Нет «упоения» и в стихах о войне («Валерик»), только горечь и грусть. Ни грана милитаристского духа, национализма, даже юношеской задиристости – готов извиниться перед дуэлью и стреляет в воздух. Как сочеталась незлобивость с ярым натиском, необходимым для убийства вооруженного и жестокого врага?
Агрессивность, безжалостность к поверженному, глупость – по Фейхтвангеру, три составные для успешного нападения – были гипертрофированы в нацистской Германии. Но в первые же недели Великой Отечественной гитлеровцев ошеломили именно яростные контратаки Красной армии. Как выразился генерал Типпельскирх, «противник продемонстрировал совершенно невероятную способность к сопротивлению». Может, фашисты встретились с еще большей воинственностью, как Ксеркс – с Леонидом? (Спартанцы оказали достойное сопротивление персам не в последнюю очередь потому, что степенью жестокости и национализма не уступали противнику, скорее превосходили его. Прекрасный аргумент для Фейхтвангера!) Но вот красноармейцы в Берлине. Не рассказывайте мне, как злой Ваня тискал несчастную Гретхен. Каждый второй советский солдат имел личный счет к немцам, замученных друзей и родственников – но количество насилия с их стороны оказалось просто ничтожным сравнительно со зверствами фашистов на советской территории. Из двенадцати тысяч советских узников Освенцима через два-три года заключения выжили шестьдесят человек – один из двухсот, а из немецких военнопленных в Союзе за десять лет плена погиб только каждый третий. Поразительно, но Красная армия, наводившая ужас на тех, кто наводил ужас на весь мир, была мирной. Невоинственной. Но как же ожесточение, помогающее идти в контратаки, где озлобленность, что должна была подпитывать ту самую «совершенно невероятную способность к сопротивлению»? Возможно ли такое? Но подобное уже было в военной карьере Лермонтова. Красная армия была лермонтистской.
В песне «Война священная», своего рода советском гимне времен войны, говорится: «Пусть ярость благородная вскипает как волна». Благородство и ярость – сочетать их оказалось возможным. Фейхтвангер ошибся – смелость бывает не только спартанской. Ярость – опора не одних подлецов. Слова Фейхтвангера, хорошо оправдывающие малодушие, ничего не значат при учете биографии Лермонтова и тактики Красной армии. И если Симонов, по признанию собственному, «как поэт целиком вышел из ˝Валерика˝», так и советская военная тактика покоится на стиле поведения Лермонтова.
18
Удивительно точно повторилась в Союзе каждая отдельная черта характера Лермонтова, его манеры поведения. Много написано о высокомерности Лермонтова, даже заносчивости (любопытно: именно заносчивость никогда не ставится в вину записному дуэлянту-кудрявцу). При этом речь всегда идет о людях влиятельных, знатных – именно они негодуют в воспоминаниях. Однако в обращении с простыми людьми, в частности с крепостными, официально признанными домашним скотом, надменный гений кардинально меняется. Простые военнослужащие плачут на его похоронах, слуга А. Соколов через десятилетия после смерти хозяина со слезами указывает на его портрет. Рабам его бабки привольно, когда гостит у нее внук – при нем никто не смеет их пороть. Почему-то эти факты озвучиваются гораздо реже.
Почти ни в одной биографии Лермонтова (до начала 1950-х – ни в одной) не упоминается, что он отпускал крестьян на волю. Дважды становясь рабовладельцем – в 1831 году, после смерти отца (стал хозяином родового имения Кропотово), и при достижении совершеннолетия (восемь крепостных семейств в Тарханах) – он тут же освобождал крестьян.
Факты того же рода – касательно Советской власти – не любят вспоминать демократы. Любят вспоминать суровость Сталина и других большевистских вождей с подчиненными. Подчиненными – то есть членами правительства, влиятельными людьми. Между тем в обращении с простым населением те же руководители предстают совершенно иными. Вот вспоминает Старостин, личный охранник Сталина. На поминках по Жданову генсек крепко выпил. Уезжая, Молотов посоветовал Старостину: если Сталин захочет ночью цветы поливать, не выпускать из дому – он может простудиться. Старостин загоняет ключ в скважину: его заклинивает, дверь не открыть. Сталин хочет выйти из дома, просит Старостина открыть.
«– На улице дождь. Вы можете простыть, заболеть…
– Повторяю: откройте дверь!
– Товарищ Сталин, открыть вам не могу.
– Скажите вашему министру, чтобы он вас откомандировал! Вы мне больше не нужны.
– Есть!»
Повозмущавшись, Сталин лег спать. Утром велел Старостину забыть ночной разговор.
Будь на месте Старостина крупный чиновник – был бы стерт в порошок. Но Старостин мал, слишком слаб для вождя народов – и ему позволено многое.
А вот Берия – самый зловещий антигерой антисоветской мифологии. Вспоминает долго работавший с ним Судоплатов: «Берия был весьма груб в обращении с высокопоставленными чиновниками, но с рядовыми сотрудниками, как правило, разговаривал вежливо. Позднее мне пришлось убедиться, что руководители того времени позволяли себе грубость лишь по отношению к руководящему составу, а с простыми людьми члены Политбюро вели себя подчеркнуто вежливо».
Стиль поведения старой гвардии большевиков – это лермонтовский стиль.
Продолжение следует

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.