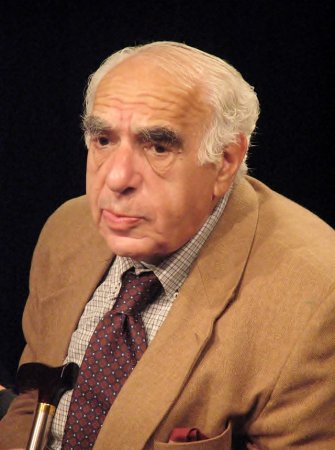

В 2012 году лауреатом российской национальной премии «Поэт», присуждаемой (по мнению организаторов) «за наивысшие достижения в современной русской поэзии», стал Евгений РЕЙН. Однако, как хорошо заметила Майя Кучерская в газете «Ведомости»), ««Поэт» – не только самая щедрая поэтическая награда (вдохновителем её стал Анатолий Чубайс, спонсор – фонд «Достоинство»), но и самая молчаливая. Формулировка, которой не избегает и Нобелевский комитет, организаторам «Поэта» кажется неуместной – в ответ на вопрос об этом руководитель жюри критик Сергей Чупринин объяснил, что слово «поэт» в формулировках не нуждается. Что, разумеется, так – в них нуждается не слово, а публика. Впрочем, премия и не ставит перед собой просветительских целей, её задача – создать ценностную шкалу, которую, очевидно, остаётся принять как данность. Решение жюри, кстати, тоже принимает молча, без дискуссий, – с помощью рейтингового голосования по электронной почте». Чтобы всё-таки прервать обет молчания и попытаться сформулировать некий ответ, чем именно заслужили стихи номинанта такой награды, предлагаем вашему вниманию постпремиальную статью о творчестве поэта.
– Ведь жить ты хочешь? – Мне не надоело.
Ф.Вийон «Спор сердца и тела Вийона»
Перенимая поступь странника, заимствуя зрительный фокус наблюдателя, Евгений Рейн в своих произведениях рельефно выписывает пейзаж окружающей действительности. Топографичность, скульптурность и точность изображения являются неизменным признаком рейновской поэзии, её характерной чертой, «костяком». Особенностью этого поэтического мира становится правдивость и однозначность использования имён собственных, будь то название улочки или имя человека. Память поэта хранит трогательную галерею, состоящую из Татьян, Анн, Октябрин, Виолетт, Нонн, Нинель, Дим, Замойских-Демидовых, Котовых. Однако внешняя привязка рейновских строк к определённому месту действия, к тем или иным людям – на самом деле лишь начальное звено цепи, соединяющей бесконечные кольца поэтических смыслов.
«Очеловеченная» эпичность произведений Евгения Рейна создаёт особую атмосферу и плавно подводит к необходимой поэту цели. Втягивая в ритм имён собственных и нарицательных, оглушая их беспрестанным потоком, он заставляет глубоко вдыхать свой жизненно важный «кислый» воздух.
Рынок Андреевский, сквер и собор,
А за домами
Дымный закат разливает кагор
Над островами.
(…)
А спохватился – чужая мигрень,
Тушь на подушке.
Что я запомнил в последний свой день
В той комнатушке?
(…)
Вот и прошёл с чемоданом квартал
До паровоза.
Всё озирался и слёзы глотал –
Бедная проза.
Взгляд через призму бытовой атрибутики – еды, одежды и прочих радостей жизни – наиболее полно и контрастно выхватывает суть явлений, неких доминант бытия. И по логике, подобное сопоставление, близость расположения весомых и незначительных величин рядом друг с другом должны были стать причиной возвышения идеалов и полного краха земных утех. Но в том и заключается мудрость, терпение, если не сказать – благость мировосприятия Евгения Рейна. Быт и ядро бытия, внешнее и внутреннее – одинаково сладки, как спиральная стружка кожуры и мякоть яблока, и составляют единое целое.
…там в яблоке – творилось мирозданье,
материя переходила в цвет.
Так вот костяк дикарского лиризма,
фигура и условие расцвета
до крика исступлённой желтизны.
Картина мира в произведениях Рейна живописна и наглядна, каждая строчка, словно мышцы на теле человека, таит в себе напряжение и мощную энергию, полную экспрессии. Будь то праздник чревоугодия, страсть туриста к рыночным развалам старьёвщиков, давнишний стук монетки по стеклу – во всём внимательное, бережное отношение к миру вещей и страстное упоение жизнью. И как здесь не вспомнить завет Франсуа Вийона: «Гуляй, пируй зимой и летом,/ целуй красоток всех земель,/ но не теряй ума при этом!» Калейдоскопичность, яркость продуктового рынка во Флоренции с его колбасами, зайцем во хмелю, лепечущими листьями капусты, собраньем земляник кружит голову лирическому герою Евгения Рейна, заставляет испытывать сомнение, прав ли он в подобном увлечении, безудержном желании обладания. Вслед за этим великолепным, красочным описанием идёт констатация духовной нищеты человека:
Корми, корми, корми!
А нет, так, чёрт возьми,
Мы станем наконец
Волками и людьми.
Когда-то в детстве дыхательные упражнения в виде шумелок помогали Евгению Рейну подавить приступы бронхиальной астмы. Болезнь прошла, а музыка спасительного ритма, наполняющего воздухом лёгкие, осталась и до сих пор продолжает звучать. Ноты «музыки жизни» заполняют ведомые и неведомые пространства: палубы, ялтинский пляж, дом возлюбленной. Лишь под неё танцуют, плачут и любят. Превосходное чувство ритма проявляется в метрическом многообразии стихотворных рифм и составляет сущность рейновского языка. Личные, сугубо интимные переживания или, наоборот, общечеловеческие, касающиеся каждого, темы наиболее уместны для этих словесно-песенных поисков.
Чёрная музыка джаза, пение «неугомонного Козина», городской романс Вертинского, Петра Лещенки, выступления величайших музыкантов Святослава Рихтера, Герберта Караяна, Евгения Мравинского, Альфреда Шнитке естественным образом вплетаются в структуру стихотворных строф Евгения Рейна и играют там одну из первых партий. Оттого в благодарность лирический герой снимает перед музыкантами шляпу:
Поклонимся в чёрные ноги артистам,
Которые дуют нам в уши и души,
Которые в холод спасают от стужи,
Которые пекло спасают истомой,
Которые где-то снимают бездомный
У вечности угол и злому чертогу
Внушают свою доброту понемногу.
Тема музыки, обязательный звуковой ряд, как в сценарных листках, являются неотъемлемой составляющей рейновской поэтики. В ней ли растворяется воздух, которым дышит поэт, она ли становится частичкой прошлого, как в «Фонарном переулке», зашипит ли побелённой пеной Японского моря и – наконец – заткнётся ли телефонным звонком или заглохнет ли пластинкой? Подобно лирическому герою Евгения Рейна, «нам остаётся только ждать и жить», бродить по городам и весям, следуя эфирному началу поэта.
И в каком бы месте ни находился этот «двух столиц неприкаянный житель» – везде его взгляд сфокусируется на заманчивых изгибах и линиях города, будь то стены домов, мосты или мятая простыня свинцовой воды. Порой судорожные попытки точного воспроизведения прошедшей бытности, «до штопочки на рукаве», охватывают лирического героя, и в итоге он припоминает звук плеска моря, снова ощущает ветер во флагах и с удовольствием смакует крепкий вкус кофе. И город признательно представляет страннику свои башни, скинув года из развала, повернув вспять время.
По Евгению Рейну, прошлое, «как ангел из-за тучи», хранящееся в памяти городов и их жителей, способно одарить тайными знаками о смысле бытия. А дальше дело за малым – их нужно только разгадать, дабы научиться правде. Течение рейновских стихотворных рек давным-давно наполнило улицы и переулки Москвы и Ленинграда своей любовью. Разница двух столиц поэтом прочувствована, пережита и фактурно зафиксирована. Скрупулёзное, внимательно-бережное отношение к двум ипостасям маленькой родины неизбывно в рейновских произведениях: он подмечает узость башенок, пустые захолустья, причудливые ворота, мёртвое золото шпилей, «общественные» квартирки. Два родных города – по-своему дорогие и важные в становлении творческого «я» Евгения Рейна – занимают огромный пласт в его литературе. Здесь они, прежде всего, живые существа, чьи портреты хранятся в семейном медальоне рейновской поэзии, друг напротив друга, спрятанные до поры до времени поближе к телу. И с каждым поэт ведёт отдельный разговор, и каждого с сыновним преклонением наделяет особенными чертами.
Ленинград – город детства, юности, отрочества, потерянный в зрелом возрасте город. Как близкому другу, заброшенному судьбой на другой край света, Рейн готов простить и «ленинградскую вонь продувную», лишь бы его отвели «на Фонтанку в пивную…». Именно в подтверждение своих искренних чувств к Ленинграду поэт тщательно перебирает названия улиц, как имена любимых женщин:
Через Фонтанку и Калинкин,
к реке, прикованной цепями,
как бы садовою калиткой, –
и на Садовую, цепляя
боками Маклина, Сенную,
Демидова и Чернышёва...
А «круглая» Москва окольцовывает Евгения Рейна, удерживает его своей рукописностью, а может, и «подтаявшим добром», теплотой, широтой разухабистой, купеческой души. Она становится для поэта столь необходимым пристанищем его печали по тому месту, в котором он родился. Стремящийся ввысь Ленинград, Санкт-Петербург, по сути равнодушный к копошению собственных обитателей, потерял Рейна-горожанина и обрёл Рейна-сына, поверженного тоской разлуки:
Теперь уже поздно, бессмысленно
рыдать у тебя на груди;
но вечно я слушал – не слышно ли
твоей материнской любви...
И до сих пор Рейн, извечный странник, признаётся в любви, ностальгирует и с наибольшим удовольствием посвящает стихотворные строки двум самым любимым городам планеты – Москве и Санкт-Петербургу.
Акцент на внешнем облике окружающего города – лишь мастерски исполненный литературный приём, имеющий довольно глубокую культурную и психологическую подоплёку. В творчестве Евгения Рейна портреты милых ему сердцу людей, а также картины урбанистического ландшафта неизменно трансформируются, приобретают «природные» черты, словно их окунают в родниковые воды правды, избавляя от налёта фальшивого лоска. Рейновские линии, цвет, запахи, музыка, сдобренные занимательными легендами, анекдотами и цитатами, радужно переливаются, звучат и заражают своей страстью к жизни.
Екатерина БЕЛЯКОВА
http://www.litrossia.ru

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.